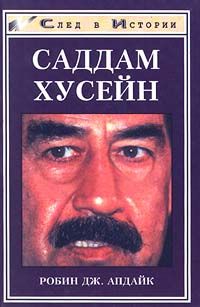Напротив, революционный режим в Тегеране был соперником совершенно иного типа — действующим неразумно, с бескомпромиссной идеологией в качестве мотива. Он преследовал цели, совершенно неприемлемые для Хусейна и сбрасывающие его со счетов. Духовным лицам не нужна была лишняя территория, не говоря уже о расчленении Ирака. Их экспансионизм был духовным, и, в отличие от шаха, они были непреклонны в решении свергнуть Хусейна и светский режим баасистов. Все больше и больше убеждаясь в действительных целях иранского режима, Хусейн понял, что не сможет примириться с превосходством Ирана, которое он молча признал в 1975 году. Теперь такое превосходство могло, в конце концов, привести к его краху, а скорее всего, к его физическому уничтожению. Поэтому он пришел к выводу, что единственный способ сдержать иранскую угрозу — это воспользоваться временной слабостью Ирана после революции и поднять ставки с обеих сторон, прибегнув к открытой, поддерживаемой всей мощью государства военной силе. 7 сентября 1980 года Ирак обвинил Иран в обстреле иракских приграничных городов с территорий, по Алжирскому соглашению принадлежащих Ирану, и потребовал немедленной эвакуации иранских сил из этих районов. Вскоре после этого Ирак двинулся «освобождать» эти спорные районы и 10 сентября объявил, что эта миссия выполнена. Через неделю Хусейн формально аннулировал Алжирское соглашение. Теперь война была практически неизбежна.
Решение Хусейна воевать было принято как бы нехотя и без всякого энтузиазма. Похоже, он решился на эту войну вовсе не для осуществления заранее обдуманного «великого плана», а был втянут в нее своим неизбывным страхом за собственное политическое выживание. Война не была его скоропалительным выбором, но крайней мерой, к которой он прибегнул только после всех других попыток отклонить давление Ирана. Это был упреждающий шаг, рассчитанный на использование временной оказии, средством избежать иранской угрозы его режиму, безжалостный и рассчитанный акт использования иракского народа в качестве живого щита, чтобы защитить его политическое будущее. Если Саддам, помимо сдерживания иранской угрозы, лелеял еще какие-то планы, а это не исключено, то они отнюдь не были причиной для начала войны, они были делом второстепенным.
Хусейн вторгся в Иран из страха, а не из алчности: уже весной 1980 года он публично упоминал об угрозе распада Ирака на три мелких государства — суннитское, шиитское и курдское. При взгляде назад оказалось, что эти опасения были сильно преувеличены, так как большинство иракских шиитов презрительно игнорировали воинствующий вид ислама, навязываемый Хомейни. Однако, если принять во внимание волнения среди шиитов в конце 1970-х гг., мощное давление Ирана на режим Баас и параноидальное стремление Хусейна обеспечить свое политическое долголетие, его тревоги жарким летом 1980 года были вполне объяснимы.
Насколько Хусейн не хотел нападать на Иран, ясно отразилось в его военной стратегии. Вместо того, чтобы нанести иранской армии решительный удар и попытаться опрокинуть революционный режим в Тегеране, он стремился локализовать войну, урезать цели, средства и задачи своей армии. Его территориальные цели не простирались за пределы Шатт-эль-Араба и небольшой части Хузистана. Что касается средств, вторжение осуществлялось менее чем половиной иракской армии — пятью из двенадцати дивизий. Вначале Хусейн воздерживался от поражения целей, имеющих гражданское и экономическое значение, нападая исключительно на военные объекты. И только после того как иранцы ударили по невоенным целям, Ирак ответил тем же.
Саддам Хусейн надеялся, что быстрые, ограниченные, но все же активные действия убедят иранский революционный режим отказаться от попыток его свергнуть. Проявляя сдержанность, он как бы сигнализировал о своих оборонительных целях и о намерении избежать тотальной войны в надежде, что Тегеран ответит тем же или, может быть, даже захочет достигнуть соглашения. Как говорил Тарик Азиз:
— Наша военная стратегия отражает наши политические цели. Мы не хотим ни разрушать Иран, ни навсегда его оккупировать, потому что эта страна — сосед, с которым мы всегда будем связаны географическими и историческими узами и общими интересами. Поэтому мы полны решимости избегать любых необратимых действий.
Это стремление принимать желаемое за действительное привело к тому, что Хусейн не понял, как следует вести такую войну. Вместо того, чтобы приказать своим войскам наступать до тех пор, пока позволяли их возможности, он добровольно сдержал их продвижение через неделю после начала военных действий и объявил о желании вести переговоры о соглашении. Это нежелание использовать первоначальные военные успехи Ирака привело к ряду печальных последствий, которые, в свою очередь, изменили весь ход войны. Оно спасло иранскую армию от решительного поражения, обеспечило Тегерану выигрыш во времени для реорганизации и перегруппировки и оказало удручающее действие на боевой дух иракской армии и, следовательно, на ее боевые операции. И самое главное, робкое вторжение Ирака не поставило под угрозу революционный режим и не утихомирило аятоллу Хомейни.
Разумеется, большинство правительств дали бы достойный отпор вооруженной иностранной интервенции, но революционный режим, подвергшийся нападению, естественно, должен был отреагировать еще яростнее, поскольку он не достиг еще стопроцентной легитимности и имел множество внутренних врагов. История показывает, что нападение на нестабильное гражданское общество, к тому же охваченное революционным пожаром, имеет тенденцию объединять сограждан, ибо внутренние враги ему представляются менее опасными, чем внешние. Как и французы, почти на два столетия раньше, иранцы направили национальный и религиозный пыл на сопротивление внешней угрозе. Вместо того чтобы стремиться к скорейшему примирению, власти в Тегеране воспользовались нападением Ирака, чтобы спешно уладить свои внутренние конфликты, притупить борьбу за власть в своих собственных рядах и подавить сопротивление своему режиму. В результате Хусейну пришлось заплатить гораздо более высокую цену за ту ограниченную оккупацию, на которую он рассчитывал. Впрочем, он и сам откровенно признал через месяц после начала военных действий, когда, казалось бы, добился несомненного успеха:
— Несмотря на нашу победу, если вы сейчас меня спросите, нужно ли было вступать в эту войну, я скажу: лучше бы мы ее не начинали. Но, к сожалению, у нас не было другого выхода.
Ему следовало бы придерживаться общеизвестной мудрости и не развязывать войну с государством, где произошла революция. Но поскольку Саддам считал, что его политическое будущее под угрозой, он не проявил тут особой проницательности. Впоследствии ему пришлось дорого заплатить за свою недальновидность.