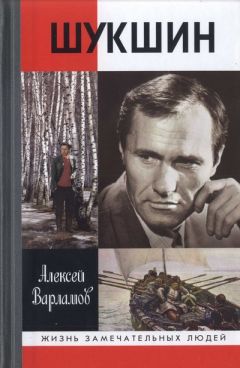Как можно видеть из стенограммы, задуманный диалог с Высоцким чаще всего переходил в монолог актера. Он пел, декламировал, рассказывал, шутил, а я был первым его слушателем. Но отведенная мне роль миманса, сокращенного до единицы, меня ни в малейшей степени не задевала. Мне удалось его разговорить, и это было самым главным.
И еще кое-что не могу не отметить. Теоретически считается, что для достижения наилучшего телевизионного эффекта камера не должна долго задерживаться на лице говорящего. И в институте операторам внушают: показав лицо человека, переходите на его руки, на стол, за которым он сидит, как говорят, «загляните в пепельницу»… Тому же учат и студентов факультета журналистики.
Что касается меня, то я категорически против этих канонов.
И очень рад, что нашел единомышленников в лице оператора и режиссера. «Нечего заглядывать в пепельницу, там ничего нет», — любит повторять и наш редактор. В программах Болгарского телевидения мы показываем советских художников, мастеров советской культуры и хотим, чтобы зрители хорошо запомнили их лица и узнавали, если когда-нибудь встретят снова. Это особенно касается молодежи, которая прекрасно знает и всегда узнает эстрадных певцов, футболистов, киноактеров, а вот писателей, художников, музыкантов, драматических артистов видит на экране гораздо реже.
В то время когда мы делали свою передачу, фотографии Высоцкого очень редко появлялись в печати. Голос его мы слышали часто, узнавали его, но широкая публика не могла связать этот голос с определенным образом. А сейчас Высоцкий все сорок минут находился прямо перед зрителями.
И хорошо, что так получилось. С годами наша передача приобрела еще большую ценность. Через десять лет после записи и через четыре года после смерти Высоцкого мы смотрели ее с Андреем Вознесенским в Софии. Когда поэт услышал запись своей «Песни акына» с музыкой Высоцкого, он был очень взволнован — никогда раньше Вознесенский этого не слышал.
Передача, хотя и была снята на черно-белую пленку, вошла в золотой фонд Болгарского телевидения. Она сохранила для нас неповторимые и незабываемые черты Высоцкого-собеседника.
Особенно грустно звучат сейчас заключительные фразы — выраженное с такой лучезарной улыбкой желание Владимира снова побывать в Болгарии. К сожалению, как известно, этому не суждено было осуществиться.
Я слушаю сейчас его пластинки и записи, читаю интервью, прокручиваю который раз полную фонограмму нашего телевизионного диалога с его декламациями и песнями и вспоминаю любопытную деталь, тоже сохранившуюся в передаче.
Свет был уже включен, камера заработала, и тут только я спохватился, что забыл предупредить Высоцкого о том, что разговаривать нам следует на «вы». Но едва я обратился к нему с традиционным «Владимир Семенович», как он прервал меня:
— Как это так? Зачем такая официальность?
Я попытался объяснить ему, что неудобно фамильярничать с собеседниками перед камерой, я всегда в этих случаях говорю на «вы». Для меня они не могут быть Володькой, Алешей, Валеркой, Аллочкой.
— Но в жизни-то мы не на «вы», получится фальшиво.
Мысль работает быстрее камеры: я понимаю, что очень важно взять верный тон в самом начале, но как сказать Высоцкому перед зрителями «Володя»?!
— Можно без «Володи» и без «Владимира Семеновича», — выручает меня Высоцкий.
— Но как?
— Можно назвать меня просто Владимиром. Потому что «Владимир Семенович» — сразу же что-то официальное. Мы давно знакомы, и будет совершенно неестественно, если мы начнем разговаривать так официально друг с другом.
Я был согласен с Высоцким, но все-таки до конца передачи ни разу не обратился к нему ни по имени, ни по имени-отчеству. А чтобы избежать «ты» или «вы», выбирал безличные формы выражения. Я понимал, что усложняю этим свои фразы, зато избежал как официальности, так и панибратства в устной беседе.
Сейчас меня тяготит, однако, не вежливая форма обращения, которая осталась в печатном тексте, — невыносимо тяжело говорить о Высоцком в прошедшем времени…
При каждом моем посещении семьи Высоцких или Театра на Таганке в 1972–1975 годах все наши разговоры с Владимиром начинались с вопроса: как обстоит дело с предстоящими гастролями театра в Болгарии? Актеры уже получили наше официальное приглашение, и оно ходило теперь по разным инстанциям. Театр жил надеждой на гастроли, тем более что ни разу еще за границей не был. Самая маленькая информация подробно обсуждалась, высказывались различные предположения, возникали всяческие догадки в связи с изменившейся обстановкой в театре и вокруг него. И хотя мы знали, что все решится где-то выше, над нашими головами, каждая благоприятная новость вносила оживление. Но так долго не было ничего нового, что мы уже выработали знак, которым без слов говорили: вопрос еще решается наверху. Владимир Высоцкий высоко поднимал руки, соединял ладони домиком и опускал, когда замечал меня еще издалека. То же делал и я, если действительно не было ничего нового. Тогда мы могли не касаться этой темы, все было и так ясно.
Поэтому когда однажды, золотой осенней порой, «Таганка» приземлилась на Софийском аэродроме, мы сочли это своей маленькой победой. Были забыты все бюрократические препоны, которые пришлось преодолеть, и все огорчения от столь длительного ожидания утонули в радостном факте: «Таганка» отправилась в зарубежные гастроли, и первой остановкой на этом пути стала Болгария.
Самолет сел раньше на целых пятнадцать минут — нечто совершенно необычайное в те годы. «Летчики почувствовали наше нетерпение»,— сказал мне Высоцкий, когда мы обнялись. Вскоре подошли и другие встречающие, взволнованные, с цветами и улыбками. В маленьком зале аэропорта вспыхнуло нечто вроде импровизированного митинга. Были там и камеры Болгарского телевидения, которые зафиксировали эту незабываемую встречу под усиливающийся временами рев взлетающих и приземляющихся самолетов…
Я хорошо помню добрые слова, сказанные Высоцким сразу после посадки самолета. Еще его коллеги спускались по трапу, еще обнимались с болгарскими артистами, когда корреспондентка Софийского радио протянула микрофон Алле Демидовой и попросила ее поделиться первыми впечатлениями, вернее, сказать, с какими чувствами она ступила на болгарскую землю. По соседству, заглушая слова, ревел самолет, репортерша проверила запись — ничего не вышло. Снова она попыталась уловить момент между объятиями, щелканьем фотоаппаратов, веселыми возгласами и приблизила микрофон к Алле Демидовой. Та произнесла что-то своим тихим голосом. Проверили — опять ничего не слышно. Корреспондентка была в полном отчаянии, умоляла помочь ей, но и в третий раз, словно в абсурдистской пьесе, на ленте записался лишь рев самолетных двигателей. Тогда Высоцкий схватил микрофон, повернулся спиной к возбужденной толпе и со всей мощью своего голоса произнес: «Тепло, очень тепло и в воздухе и в душах!» А потом, когда мы сидели в ожидании багажа, повторил эти слова в не столь шумном помещении. До сих пор я храню снимок, который запечатлел меня с Владимиром Высоцким и Аллой Демидовой в тот момент, когда я протягиваю ему микрофон нетерпеливой радиорепортерши.