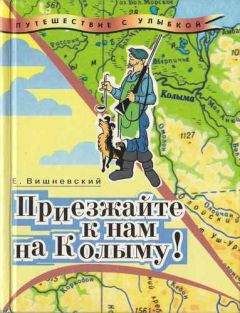Петр Степанович не вполне был доволен своим воспитательным вмешательством, нужен бы более обстоятельный разговор. Но дерзость сына вывела его из себя, и он сорвался. Когда бы это он, Петр Степанович, позволил бы себе так разговаривать с отцом? А этот! Молокосос!
К десятому классу конечно, все это забылось. Правда, перед концом девятого класса произошел еще один случай, даже опасный, но опять все обошлось.
Младший сын Петра Степановича учился во второй смене. В тот день, 5 марта, ему предстояло писать классное сочинение по произведению писателя Михаилы Коцюбинского «Fata morgana», и с утра он пошел в читалку районной библиотеки, чтобы подготовиться. Еще несколько его одноклассников пришли за тем же – учительница украинской литературы требовала, чтобы в сочинениях не только отражалось знание произведения, но и светилась связь с современностью. Например, надо было обязательно указать, что цитату из «Fata morgana» привел в своем выступлении, будучи главой Коммунистической партии Украины, товарищ Каганович. Эту цитату ученики должны были знать наизусть: «Ідуть дощі. Холодні осінні тумани клубочаться угорі і спускають на землю мокрі коси. Пливе у сірій безвісті нудьга, пливе безнадія, і стиха хлипає сум. Плачуть голі дерева плачуть солом'яні стріхи, вмивається сльозами убога земля і не знає, коли осміхнеться. Сірі дні зміняють темнії ночі. Де небо? Де сонце?»[14] Но одно дело – знать наизусть, а другое – объяснить в письменной форме, что хотел сказать автор, а особенно – товарищ Каганович. Один ученик, отвечая на уроке, предположил, что, наверное, они хотели сказать, что до революции на Украине была плохая погода, так учительница подняла его на смех. И она сказала, что именно надо почитать, чтобы знать, как правильно ответить на этот вопрос.
Заведующая читальным залом, брюнетка в украинском стиле – с косами вокруг головы и черной мушкой над верхней губой – была очень строгая, особенно по части поддержания тишины в зале, она даже болтливых мальчишек могла укротить: никаких разговоров! Младший сын Петра Степановича любил всем давать смешные прозвища, ее он прозвал «Гандзя»
– «Гандзя рыбка, Гандзя птичка, Гандзя цяця-молодычка», – похохатывал он, само собой так, чтобы она не слышала, еще чего не хватало! Сейчас она сидела за своей стойкой, народу было немного, в основном школьники, два каких-то старичка, листавших газеты, если бы через зал, извините, пролетела муха, – все бы услышали.
Вдруг шум, тарарам, оказывается, умер Сталин, и сейчас будет траурный митинг. Пришел заведующий библиотекой, инвалид войны без руки, – он в читальном зале редко появлялся, сидел где-то в своем кабинете, – и стал держать речь. Заведующий библиотекой говорил о большом горе, которое постигло советский народ, о том, что сегодня никто в стране не может удержаться от слез, и было видно, что он делает огромные, но безуспешные усилия, чтобы вызвать слезы и у себя. Ничего не получалось, только голос стал немного гнусавее, как у притворно плачущего ребенка. Учитывая серьезность момента, все сидели с вытянутыми лицами, а младший сын Петра Степановича, разгильдяй, не удержался и фыркнул. Нашел время! Понимая легкомысленную неуместность своего поведения, он опустил голову к столу и уткнулся лицом в раскрытый журнал «Вітчизна». Возможно, он надеялся, что если он примет такую позу, то его смех будет принят за рыдание? Обмануть Гандзю было, конечно, невозможно. Она подлетела к нему сзади, не говоря ни слова, выхватила журнал, так что младший сын Петра Степановича стукнулся носом об стол, и удалилась.
После окончания митинга он подошел к стойке, где выдавались книги, и попросил назад свой журнал, но не тут-то было. Гандзя, обычно благоволившая к нему, как к постоянному читателю, сейчас даже не стала разговаривать – только посмотрела с необыкновенной государственной свирепостью и объявила, что на месяц исключает его из библиотеки. Хорошо хоть не навсегда, и в школу не сообщила, а то могло кончиться хуже. В прошлом году одного мальчика из их школы спросили на уроке истории, почему Ленин взял себе такую фамилию. Надо было сказать, что в память о Ленском расстреле, а он не знал и честно сказал:
– Не знаю. Может быть, от слова «лень». Так его исключили из комсомола. Навсегда.
У Петра Степановича на службе в тот день тоже, конечно, был траурный митинг. Вечером он вернулся домой, слышит на кухне какой-то гогот. Он открыл дверь кухни, а там младший сын с двумя приятелями смакуют подробности утреннего происшествия. Приятели увидели Петра Степановича, и с хохотом стали ему пересказывать, как его сын отличился. Петр Степанович сумрачно постоял в дверях и, ни слова не сказав, вышел из кухни, плотно закрыв дверь.
Вообще-то Петр Степанович недолюбливал Сталина, его роль в революции считал он, сильно преувеличили. В семейном кругу он, не таясь, говорил об этом, а иногда и с сослуживцами делился – осторожно и только с теми, кто понадежнее.
– Я же помню, – рассуждал он на правах пожившего человека, – тогда его никто не знал, про Махна и то мы больше слышали. А теперь, можно подумать, Ленин да он, больше никого и не было. Не знаю, может, конечно, он и не виноват, а приближенные подхалимы стараются. Там уже никого из революционных деятелей не осталось, кроме Молотова. Генералиссимус! Понадавали ему орденов, вешать некуда, скоро на спину будут прилеплять. Восхваляют до небес, разве это прилично? Что он не видит, что ли? Теоретик он сильный, я не говорю, в вопросы языкознания здорово вник. А в людях плохо разбирается, слишком доверяет подхалимам, а они творят, что хотят. За что моего среднего сына посадили? Тоже мне, шпиона нашли!
Большого горя при известии о смерти вождя Петр Степанович не испытал, а тревога была. Дальше-то что будет? Интуиция подсказывала, что хуже не будет, ощущалось даже что-то вроде надежды – в том смысле, что пусть даже и неизведанное, но новое. Но и опасения были, неизвестно ведь, кто станет новым вождем и как он себя проявит. Достойных кандидатов он не видел.
– Жалко, Кирова убили, – посетовал он, когда после траурного митинга его сослуживцы стали строить догадки насчет будущего вождя. – Этот смог бы! А Маленков может не потянуть. Молотов тоже, конечно, подходит, но возраст уже не тот…
Горя, повторяем, Петр Степанович не чувствовал, но почему-то ему не нравилось, что его не чувствовали и другие, – он это ясно видел, наблюдая людей вокруг себя, особенно тех, кто считал нужным добровольно или по долгу службы выразить свое горе прилюдно, – получалось очень фальшиво, лучше бы уж молчали, думал Петр Степанович.
А тут еще эти лоботрясы со своим рёготом… Все-таки, какой-никакой, а человек помер!