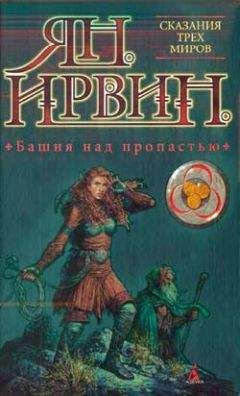Цитеры», я открою клетку. Живой ангелочек (одиннадцатилетняя Александра Данилова, совсем малышка, будущая балерина «Русских балетов» – ее кожу покрасили золотой краской) должна выпорхнуть оттуда и сделать вместе со мной несколько па, а потом уйти со сцены. Увы – свернувшись калачиком в клетке, она задремала. Ее венчик из роз сбился на сторону на густых волосах, колчан валяется рядом, и она безмятежно спит. Что же делать? Такого поворота не было предусмотрено в либретто… Отказавшись от задуманной прелестной интерлюдии, я изображаю, будто выпускаю птичку из клетки… Мгновенье провожаю взглядом ее полет к небесам, едва заметно поднимая голову… Публика поняла: я пытаюсь исправить нежданную оплошность – и разразилась аплодисментами. Слышу крики: «Браво! Сгодится! Снимаем шляпу!» – те крики одобрения, какие обычно адресуют цирковым артистам после того, как они исполнили смертельный номер… И впрямь – это немного смахивает на Хаджи Фезира, факира и очень гибкого акробата, приезжавшего выступить в «Собаке» и вызвавшего бурное воодушевление у «фармацевтов»… Аплодисменты не смолкают, они все громче… Да кончится ли это когда-нибудь? Что мне делать – продолжать или остановиться?
Музыканты сбились и играют сумбур, я делаю сразу несколько реверансов, потом снова танцую – оркестр по моему знаку играет «Колокольчики». Импровизирую, укорачиваю задуманное, спрямляю острые углы танца… доходит до того, что я вынуждена повторять одни и те же фигуры… Вместо быстрых прыжков по диагонали семеню от одного угла эстрады к другому, жестикулируя так, как видела это в исполнении Айседоры Дункан… Арфы и клавесин жужжат как пчелиный рой. Бедный Куперен – как же я искалечила его! Скорей бы, скорей бы все кончилось…
Исполняю малый сисон, потом еще один… Энвелопе, поднявшись на пуанты… Вот и последние аккорды… Все кончено… Я свободна, но сколько ж я напортачила! Никогда еще я не танцевала так скверно…
Я снова кланяюсь… лицо искажено, сердце разбито. Яркий свет… Гром аплодисментов… Какой-то человек встает, весь сияет, он хлопает громче всех, а глядя на него, хлопает и публика: да это же Карл Маннергейм, мой воздыхатель-с-тысячью-розовых-букетов! Он при полном параде офицерской формы, а рядом – супруга… Встает и весь зал… Это настоящая овация… А Генри, мой любовник, – где же Генри? Наконец я замечаю и его – чуть поодаль от всех, в совершенно неуместном здесь охотничьем костюме… Взглядом ищу его взгляд… Но вместо этого Генри… смотрит на часы! Я вижу, как он скептически обводит глазами публику и хлопает – вяло, надменно, флегматично… Отказываюсь в это поверить… Разочарование, стыд, снобизм? Ах, я же влюбилась в British diplomat! Следовало предвидеть последствия… А Василий бы поднялся. Он понял бы, в каком я замешательстве, и поддержал бы меня взглядом… Василий, который так любит «Бродячую собаку», Василий, которого я бросила ради этой вечеринки, Василий, которому злые языки уже нашептывали, что меня часто видят в обществе другого мужчины, – Василий уже начал во мне сомневаться… Василий, который молча страдает… Василий, душа-сестра моя, Василий, которого я все еще люблю…
Мне хочется бежать, вернуться домой, броситься мужу на шею, но об этом не может быть и речи. После представления предусмотрен легкий ужин, от него мне никак нельзя уклониться.
Этой вечеринке не суждено завершиться. Как во сне – а точнее бы сказать, как в кошмаре, – я вижу выходящую на сцену Анну Ахматову в черном платье, сколотом на талии крупной камеей, на плечи наброшена пестрая шаль. За ней Кузмин, сияющий, в лиловом жилете, его темно-карие проникновенные глаза полны благодарности. Меня поздравляют. Меня чествуют. Я едва слышу, что говорят вокруг. Время тянется невыносимо долго. Я чувствую себя так, словно играю шута в немом фильме и в замедленной проекции. Мне преподносят только что напечатанную брошюру в лиловом переплете, это сборник стихов в мою честь, там есть еще рисунки и фотографии. Название: «Букет для Тамары Карсавиной». Ахматова нежным голосом декламирует собственный мадригал. В нем говорится о моих черных глазах – необычайно черных, и о гибком теле. Одна женщина превозносит красоту другой – разве это не редкость само по себе? Наступает черед Кузмина, и он, протягивая мне бокал шампанского с ананасом, сравнивает меня то с Коломбиной, то с Саломеей. А за ужином очередь Евреинова и Лозинского – оба тоже читают собственные стихи… Я не заслуживаю таких похвал. Я плохо танцевала. Я все испортила. Мне стыдно, я глупа, я виновата…
Сегодня утром я разыскала в ящике стола моей спальни брошюрку, аккуратно лежавшую в большом конверте из крафтовой бумаги; цветастая обложка разрисована Судейкиным, Серовым, моим другом Сориным и другими… Сев у окна, из которого мне видна природа, бурно расцветающая под майским солнцем, так далеко от «Бродячей собаки», так далеко от мартовской петербургской измороси, я медленно перечитала каждый из этих шедевров, созданных для меня и только для меня пятьдесят пять лет назад безмерно талантливыми поэтами. Продекламировала вслух, вновь ощутив красоту русского языка, ритм стихов. Я едва сдерживала слезы – они жгли мне глаза. И сразу же после этого одним махом написала эти страницы, не размышляя, не прерываясь, ничего не пропустив. Просто заботясь об истине. Будь у меня талант Гоголя, эти записи могли бы называться «Записками сумасшедшей».
Когда уже закусили, а я изо всех сил старалась сделать довольное лицо, Генри наконец подошел и пробормотал мне на ухо несколько извинений. Мой танец ему понравился – но он сожалел, что и атмосфера, и публика тут… «не того уровня».
– Кто они, все эти люди, my darling? Эти никчемные сумасброды, неудачники, эти личинки?
Нет, я их не забыла, эти ужасные слова.
«Сумасброд, неудачник, личинка» – Кузмин, эстет с целым букетом талантов: художник, композитор, романист, драматург, переводчик, ученый-славист, прекрасный знаток магической философии, которого знал и которым так восхищался мой брат. Это он-то личинка – благородный дух, так и не эмигрировавший из страны и умерший в нищете в 1936-м?
«Неудачница-личинка» Анна Ахматова, красавица Серебряного века, осталась в Советском Союзе, испытала на себе преследования режимом; три года назад она умерла – и сейчас ее называют крупнейшей русской поэтессой XX века. [70]
А ее муж Николай Гумилев, основатель движения акмеистов, великий путешественник, добровольцем ушедший на войну 1914 года, казненный большевиками в 1921-м… он – личинка?
Рерих, художник и визионерский театральный декоратор, философ, исследователь, археолог, этнолог, основатель нескольких учебных заведений, теософ, в 1929 году номинировавшийся на Нобелевскую премию мира… личинка?
А другие? Кульбин, военный врач, государственный советник, преподаватель университета, артист, конферансье, музыкант, издатель, меценат… А Бенуа, а Мережковский… Анненков, Лурье – какие таланты…
Этим «личинкам» война, а потом и революция принесут муки, изгнание или гибель.
Совершила ли я