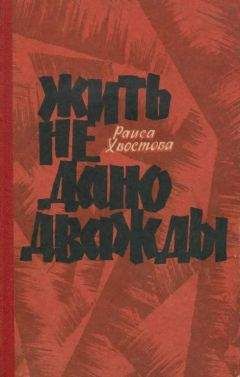Словом, можно было гадать сколько угодно и ничего не угадать. Разгадка у шефа. А он почему-то не вызывает. Кончился день, прошел вечер, наступила ночь. Я дремала, вжавшись спиной в угол, вздрагивала от каких-то видений, и снова наваливалась тяжелая дрема.
Наконец кончилась бесконечная ночь. В конце под потолком глянул косой лучик солнца, где-то там, далеко и близко, щебечут птицы, воздух прохладен и чист, ветер перебирает листья. Душная тоска подкатила к горлу. Нет, нельзя ей поддаваться!
Поднялась, вытянулась так, что хрустнули кости.
Да, надо проверить — нет ли каких улик на мне: записки, метки пошивочной фабрики или чего другого. Сняла платье — порядок, какая-то иностранная марка, вывернула пальто — немецкая марка. Но, что это завалилось за подкладку полы? Встряхнула — спички.
Сразу все вспомнила: на аэродроме, в ожидании вылета, решили перекусить. Я взяла из рук майора Воронова коробок, светила, пока он отыскивал пакет с продуктами. Потом, наверное, машинально сунула коробок в карман, карман протерся.
Вытащила спички — фабрика № 1, Башкирия, на этикетке портрет Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Ох, нашли бы этот коробок при обыске!.. Что же с ним сделать? Съесть? Коробок полон спичек. Как же от них избавиться?
Стучу в дверь. Вошел жандарм — попросилась в туалет. Жандарм повел меня через двор. Зашла, закинула крючок, поглядела в щель — жандарм стоял в пяти-шести шагах, рассматривал на руке часы, наверное, новые. Я просунула руку в отверстие и забросила коробку дальше под пол.
Только теперь облегченно вздохнула — как все-таки разведчику надо быть предельно осторожным. Малейшая неосмотрительность ведет к катастрофе. Спички могли дать в руки врагу неопровержимые улики — откуда на оккупированной территории советские спички? Здесь забыли, как они выглядят!
В полдень меня ввели в кабинет шефа.
— Ну что, Ион… Простите, господин шеф, вам удалось разобраться?
Шеф обошел стол, встал передо мной, вперив оба страшных глаза. Мне казалось, жизнь медленно уходит из моего тела. Но я еще улыбалась трясущимися губами.
— Да, — выдохнул он. — Да.
И влепил пощечину.
— Парашютистка? — прошипел он.
— Нет.
Пощечина.
— Парашютистка?
— Нет.
Пощечина.
— Парашютистка?
— Нет.
Пощечина.
— Снять отпечатки!
Шеф сел за стол.
Вошел жандарм, стал снимать отпечатки пальцев — большого и указательного. Засмеялся вдруг, сказав по-румынски:
— Пальчики благородные.
Я стояла спиной к шефу. Щеки горели, разбитые губы саднило. Горло сжимали спазмы. Меня еще никогда не били! Но я держала высоко голову. Пусть этот гад не думает, что я боюсь или что меня можно так легко испугать.
Жандарм ушел.
— Садитесь, Женя, или Марина, или еще как там вас зовут, — почти дружелюбно сказал шеф. — Надеюсь, вы поняли — запираться не стоит. Мы заставим говорить любыми мерами. А меры эти — не для барышни. Покрепче вас не выдерживали.
— Не понимаю, о чем вы…
Шеф нетерпеливо перебил:
— Отлично понимаете!.. Просто так человек не станет менять имена и фамилии. Вы в селе возле Саланешт…
— Но я никогда не была в Саланештах.
— Неужели вы поверили, что я не узнал вас? Я думал, вы умнее.
Крикнул:
— Хватит! Говори — парашютистка?
— Нет!
Шеф обошел вокруг стола, впившись в меня глазами-кровососами. Сейчас ударит.
— Парашютистка?
— Нет.
Пощечина.
— Парашютистка?
— Нет.
Пощечина.
Шеф шипел и бил, бил и шипел. Бил по голове, по плечам, по спине, по зубам. Бил железными кулаками — шеф жандармерии Ионеску славился жестокостью.
Но выбивал только одно:
— Нет!.. Нет!.. Нет!..
Я кричала, чтобы заглушить боль и унижение, чтобы он понял — меня не сломить. Я почти ликовала — он ни черта не знает, шеф жандармерии, ни черта! И никогда не узнает! Никогда!
Допрос длился пять суток. Пять дней и пять ночей — почти без передышки. Утомленного шефа сменяли его подручные — на то время, что он принимал гостей дома, целовал пышную красавицу Марго, спал. А меня били, били, били.
Уже не было боли. Не было моего тела. Левый глаз не видел, волосы покрылись кровавой корой. Жестким стало изорванное платье — еще недавно в зеленую точечку. Временами угасала мысль. Жило во мне только одно яростное сопротивление — его нельзя было растоптать, окровавить, изуродовать. Оно было недосягаемо для кулаков палачей. Его можно было только убить вместе со мной.
Но меня почему-то не убивали. Надеялись выбить признание. Хоть ложное, но только, чтобы шефу заработать награду от своих хозяев. Шутка ли, в его владениях такие диверсии, а преступников нет.
— Нет!.. Нет!.. Нет!.. — твердила я разбитым ртом.
На шестой день вывели меня во двор. На солнце. Меня затрясло в ознобе. Клацали зубы, и ничем нельзя было унять дрожь.
Скоро жандармы вывели во двор пожилого мужчину — в темном костюме и молдаванской шапке. Следом вышел шеф. Повертел птичьей головой, подошел ко мне:
— Стой и смотри. Буду рассчитываться с партизаном.
Я разглядела правым глазом мужчину — следов побоев незаметно. Держался он с достоинством — прямо, спокойно. Как Федор.
Федора я не видела, не знала, что с ним, — может, уже и в живых нет. Если они меня истязают, то что говорить о Федоре.
— Сними сапоги! — приказал шеф мужчине.
Тот сел на землю, стянул сапоги, размотал портянки. Портянки сунул в голенища сапог, сапоги аккуратно поставил вместе. Встал.
Шеф медленно засучивал рукава.
Подошел к мужчине. Размахнулся. Ткнул кулаком в лицо.
Человек беззвучно грохнулся на спину. Шеф подошел и пнул его ботинком в окровавленное лицо. Еще раз пнул… И еще… Лицо стало месивом. Человек захрипел, захлебываясь кровью. А шеф бил ботинком — все по одному месту, по кровавому месиву бил, бил, бил. Ухая, как мясник. Ботинки, обмотки, брюки его были залеплены кровью.
Наконец он вырвал у жандарма винтовку и разрядил ее в неподвижное тело.
Меня рвало.
— Смотри!.. Будешь весь день стоять тут и смотреть! — он отдал винтовку жандарму, достал из кармана носовой платок, вытер лицо и руки. — Может быть, теперь вспомнишь.
Шеф неторопливо прошагал по двору, скрылся в дверях жандармерии. «Нет!.. Нет!.. Нет!..» — кричал во мне внутренний голос. Сказать это громко не смогла, горло будто сдавили клещи, язык не шевелился. Только зубы стучали и все тело дрожало в ознобе — мне было нестерпимо холодно под жарким солнцем.