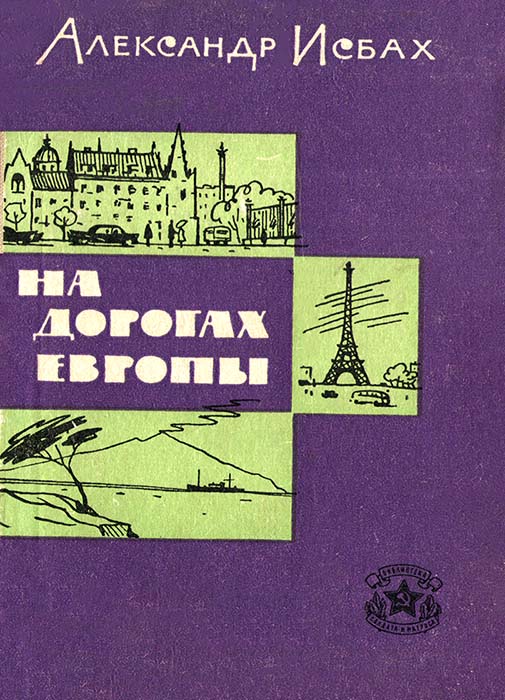и работать. Этот горячий прием рабочих был лучшим ответом критикам-перестраховщикам, догматикам и злопыхателям. А таких было, увы, не мало. И в то время, и, к сожалению, в более поздние годы…
Читали свои стихи молодые поэты… Читали свои рассказы и отрывки мы с Ильенковым и Завьяловым.
Но «гвоздем» вечера был действительно Багрицкий. Когда Эдуард вышел на авансцену (он не любил кафедр, трибун, только появившихся тогда микрофонов), его опять встретили овацией.
Он переждал, поднял руку и начал читать стихи без всяких предисловий и объявлений. Он был поэт, а не оратор.
Это был своеобразный творческий отчет. Читал он стихи из разных книг, я бы сказал, из разных «эпох» своего творчества.
«Суворов». «О Пушкине». «Контрабандисты». «Дума про Опанаса». «Разговор с комсомольцем Дементьевым» («Памяти моего близкого друга Коли Дементьева», — сказал он горько). Отрывки из «Тиля Уленшпигеля». Переводы из Бена Джонсона. Читал он своим надтреснутым хрипловатым голосом, часто кашлял. Пил воду. Задыхался. То снижал, то поднимал голос, усиливая интонации, предельно выдыхая из грудной клетки остатки воздуха.
Иногда мне становилось страшно за него. Казалось — не выдержит, задохнется, упадет. Но он подавлял одышку, взмахивал спутанной своей шевелюрой и… овладевал аудиторией. И побеждал аудиторию. И каждая строфа находила свой доступ в сердца старых и молодых мастеровых, заполнивших зал. Перед ними возникал и ссыльный, живой, во плоти и крови, Суворов; и безжалостно пораженный наемником Николая, умирающий Пушкин; и поэт-воин, который «в свисте пуль, за песней пулеметной… вдохновенно Пушкина читал»; его друг комсомолец-военком Дементьев; и другой военком — герой гражданской войны, соратник легендарного Котовского, давно полюбившийся читателям Иосиф Коган; и мятежный, озорной Тиль Уленшпигель.
И все это воплощалось в образе седого вдохновенного поэта, задыхаясь говорящего с ними языком стихов со сцены построенного ими дворца.
…Багрицкий очень устал. Но он был счастлив. Я боялся, что начнется припадок астмы. Мы с Ильенковым буквально силой увели поэта со сцены.
Багрицкого ждали московские дела, и мы должны были уехать ночью.
…На вокзал ехали в той же пролетке. Оказалось, что возница тоже был на вечере. Он рыбачил некогда на Черном море. Особенное впечатление произвели на него «Контрабандисты». Поэт заслужил его доверие. Теперь он согласился бы пустить Багрицкого даже на облучок.
Московский поезд по расписанию уходил в двенадцать. Плацкартных мест достать не удалось, и провожающие друзья едва всунули нас в переполненный вагон. Не только лечь, — сесть там было невозможно.
Прозвенели уже все звонки. Провожающие разошлись. А поезд не двигался.
Я с опаской смотрел на Багрицкого. Судя по всему, приступ надвигался. Около первого часа ночи по составу прошел слух, что поезд задерживается, так как из брянского сумасшедшего дома бежал буйный пациент и ему удалось проникнуть в один из вагонов.
Эдуард внимательно прислушался. Потом вдруг рванул ворот рубахи (он никогда не носил галстуков), откинул голову и, потрясая седыми прядями, стал, задыхаясь, хрипеть. Эффект был потрясающий. Прежде всего перепугался я. Вот и приступ… А соседи наши по купе сорвались со своих мест, точно их сдунуло ураганом. Купе опустело.
Эдуард выпрямился, затих, хитро подмигнул мне и сказал спокойно:
— Ну, Сашец, полки свободны. Приляжем для верности. Ехать-то ведь целую ночь…
Такого блестящего розыгрыша я, видавший много его инсценировок, не ожидал…
— Ты победил, Галилеянин…
…Бежавший «псих» был вскоре обнаружен в соседнем вагоне. Поезд двинулся к Москве. Однако немногие вернулись в наше купе. Пассажиры все еще с опаской смотрели на Эдуарда и не решались потревожить его сон. Вот что значит искусство!..
Долгие годы связанный с Коломенским паровозостроительным (теперь тепловозостроительным) заводом, на котором работал еще в юности, я регулярно «привозил» на завод московских писателей и поэтов, «хороших и разных».
Однажды — было это, насколько помню, осенью 1929 года — собралась для очередного «коломенского» выезда неплохая бригада: Александр Серафимович, Алексей Сурков и Эдуард Багрицкий. С Сурковым в тот год мы разделяли руководство заводским литературным кружком. Он занимался с поэтами, я — с прозаиками.
Поезд шел тогда до станции Голутвин больше трех часов.
Эдуард расположился на нижней полке, как дома на любимой тахте. Сел по-турецки, расстегнул ворот косоворотки, приготовил на столике свое «астмическое» курево. Но курить не решался. Боялся растревожить некурящего нашего «старшого», подозрительно воззрившегося на необычайные, длинные сигареты. С Багрицким Серафимович знаком был мало и встретился едва ли не впервые.
Вообще группа была довольно живописная: Серафимович и Багрицкий склонили головы над какими-то журналами, раздобытыми Сурковым, и мне с моей верхней боковой полки видны были только блестящий шар чисто выбритой головы нашего патриарха, неизменный его белоснежный воротничок и пепельно-седая взлохмаченная шевелюра Эдуарда.
Серафимович и Багрицкий попросили рассказать об истории завода, о людях, с которыми нам предстояло встретиться. Сурков стащил меня с полки, и я уселся рядом с покашливающим Эдуардом. Мимо нас проплывали подмосковные леса, станции знаменитой Рязанской дороги, по которой двигался в 1905 году на усмирение крамольных коломенцев карательный отряд полковника фон Римана.
Перово. Люберцы. Ухтомская… Здесь был убит легендарный машинист Ухтомский. Фаустово…
Это все были как бы иллюстрации к моему рассказу. Александр Серафи́мович задумчиво смотрел в окно. Сурков что-то записывал в толстую клеенчатую тетрадь. А Эдуард все покряхтывал и раскачивался на полке своей, как большой, массивный седовласый Будда.
Он оживился, и глаза его блеснули, когда рассказывал я про то, как в 1918 году на завод прибыл на «излечение» израненный бронепоезд «Свобода или смерть». По вмятинам на башнях; по пробоинам от разрыва орудийных снарядов было видно, что побывал он во многих боях.
Командиром бронепоезда был Андрей Полупанов, коренастый моряк родом из шахтеров Донбасса. Пулеметные ленты крест-накрест обтягивали его грудь, на поясе висели бутылочные гранаты…
— Постой, постой, Сашец, — взволновался Багрицкий, — ты говоришь — Полупанов? Так я же знаю тот бронепоезд. Он воевал на Украине. А не был ли там комиссаром некто Наум Гимельштейн?
— Был… И перед возвращением на фронт Полупанова и Гимельштейна принимал Владимир Ильич…
— Сашец, — Эдуард обнял меня порывисто, — Сашец. Так я же знал и того Наума Гимельштейна… А как вы думаете, — подмигнул он нам лукаво, — Иосиф Коган — это лирическая фигура? — И внезапно обернулся к Серафимовичу: — А ваш замечательный Кожух, а фадеевский Левинсон, что, они взяты из воздуха?.. Ну что ты еще можешь рассказать, Сашец, про Полупанова и Гимельштейна?..
…Переезжая Москву-реку, мы увидели вдали коломенский кремль и знаменитую Маринкину башню.
— Марина Мнишек? Здесь — в этой башне? И ты до сих пор молчал! Ты же ограниченный человек, Сашец… Ты совсем не знаешь, о чем следует рассказывать. Надо сойти