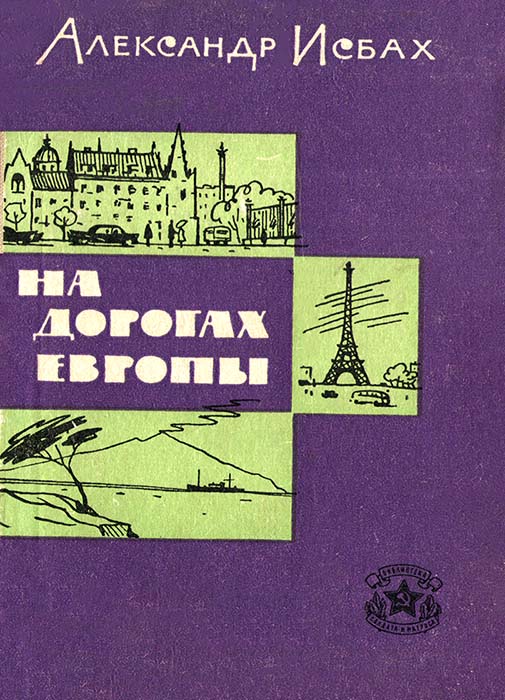о групповых делах. Мы просто пили из чистых родников поэзии и постигали, что значит истинно вдохновенное творчество.
Нам казалось, что и ему, Эдуарду, хорошо с нами. И мы, совсем еще тогда юные и наивные, не замечали, что, всей душой прикипая к нам, он порой отчуждается и думает свою нелегкую и тревожную думу.
Он болезненно ощущал тот разрыв между поколениями, между собой и нами, которого не ощущали мы.
В 1926 году он прочел нескольким молодым поэтам еще в черновике (чего никогда не делал), видимо, только-только написанные стихи:
Мы — ржавые листья
На ржавых дубах…
Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Над нами трубят трубачи зоревые,
Знамена мотаются, лошади ржут!
Над нами чужая играет стихия,
Чужие созвездья над нами цветут…
Эти горькие строки показались нам настолько неожиданными для Багрицкого, что мы сначала подумали — не чужие ли это стихи, не проверяет ли он нас по ехидной своей привычке.
Нет, это действительно были стихи Багрицкого. (Впоследствии он много работал над этим стихотворением, многое изменил, но основная трагическая интонация, так поразившая нас, сохранилась.)
В тот вечер Багрицкий предстал перед нами в какой-то иной своей грани. И мы поняли, что нас действительно разделяют годы. Для нас никогда не стоял вопрос об отношении к революции (принимать или не принимать), мы в революцию родились, и иного пути для нас не было. А Багрицкий пришел из какого-то иного, незнакомого нам, дореволюционного мира. Ему пришлось многое преодолеть, хотя он ненавидел этот мещанский мир страстно и непримиримо.
И все же он был из поколения Блока, и все же проблема «выбора», связанная с глубокими трагическими переживаниями, требовала от него своего поэтического выражения. Нет, не такой простой и прямой путь был от «Ржавых листьев» к «Думе про Опанаса», к написанному через несколько месяцев «Разговору с комсомольцем Дементьевым», к созданной уже на раннем жизненном закате «Смерти пионерки».
И все же он всегда подавлял в своем творчестве эту трагическую интонацию.
Он любил вспоминать о том, как работал в Югроста, как воевал в гражданскую, пусть только в агитпоездах. Как жалел он, что прошел все же по боковым дорогам революции, что не пришлось ему быть «комбатом», или «комбригом», или выступать самому в роли воспетого им комиссара Когана, и как мечтал хоть в будущем «восполнить» этот пробел!.. И потому так болезненно относился он (как, впрочем, и Маяковский) к тому, что его называли только «попутчиком».
И может быть, чтобы сгладить впечатление от «Ржавых листьев», а может быть, и для того, чтобы поспорить с самим собой, в тот же вечер вынул он перед самым прощаньем из какой-то запыленной папки листочек и прочел нам, задыхаясь и кашляя больше обычного:
От пролеткультовских раздоров
(Не понимающих мечты),
От праздных рифм и разговоров
Меня, романтика, умчи!
Я чересчур предался грубым,
Непоэтическим делам, —
Кружась как мудрый кот под дубом,
Цепь волочил я по камням.
И в сердце не сдержать мне гнева,
Хоть сердце распирает грудь…
Но цепь грохочет: влево, влево —
Не смей направо повернуть!
Довольно! Или не бродячий
Мне послан господом удел?
И хлеб, сверкающий, горячий,
В печи не для меня созрел?..
Не я ль под Елисаветградом
Шел на верблюжские полки,
И гул, разбрызганный снарядом,
Мне кровью ударял в виски?
…В Алешках, под гремучим небом,
Не я ль сражался до утра,
Не я ль делился черствым хлебом
С красноармейцем у костра?
Итак, пусть без упреков грозных!
Где критик мой тогда дремал,
Когда в госпиталях тифозных
Я Блока для больных читал?..
Пусть, важной мудростью объятый,
Решит внимающий совет:
Нужна ли пролетариату
Моя поэма — или нет?..
Это было что-то вроде предисловия к написанному еще в 1923 году в Одессе «Сказанию о море, моряках и Летучем Голландце», которого мы еще не читали.
Это был и спор с критиком, и это был в какой-то мере спор с написанным только сейчас стихотворением о «ржавых листьях», спор, который волновал самого автора многие годы. А скольких поэтов вопрос этот о нужности массам, вопрос «выбора» волновал многие десятилетия — от Генриха Гейне до Сергея Есенина и Поля Элюара!.. Для Багрицкого в организационном плане эта проблема «выбора» решилась в 1930 году вступлением в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (в одно время с Маяковским и Луговским). Но об этом речь еще впереди.
…А через год после «Листьев» этот же спор вылился в «Разговор с комсомольцем Дементьевым», с Колей Дементьевым, которого Багрицкий полюбил больше всех молодых своих друзей и поэму которого «Мать» при всей своей требовательности оценил очень высоко. Проблема разрыва между поколениями была снята.
Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить…
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки —
Десять лет разницы —
Это пустяки!..
Несмотря на хроническую тяжелую астму, причинявшую ему жестокие страдания и частенько приковывавшую его к тахте, Эдуард Георгиевич очень любил ездить по стране, выступать перед народом.
Позвонит, бывало, по телефону, скажет веселым, озорным, хриплым голосом:
— Сашец… Кажется, старуха (астма!) дает мне отпуск на пару дней. Используем? Съездим? Что у тебя на примете?
Однажды «на примете» у меня оказалась Брянщина. Старый завод «Красный Профинтерн» в Бежице.
В Брянске редактировал газету только что входящий в литературу молодой писатель Василий Павлович Ильенков. Заочно познакомился с ним я по хорошему рассказу «Аноха», который он прислал в журнал «Октябрь». Рассказ очень понравился и «старшому» нашему, Александру Серафимовичу, и Феде Панферову, и мне. Решили печатать. Началась переписка.
Василий Павлович пригласил москвичей в Брянск: людей, как говорится, посмотреть и себя показать.
С паровозостроительным заводом «Красный Профинтерн» Ильенков был связан давно, писал сейчас о заводской жизни новый роман «Ведущая ось» (который вызвал впоследствии ожесточенную полемику). Я сообщил Ильенкову, что приедем мы с Багрицким, что «гвоздем» намечающегося вечера будет, конечно, Эдуард.