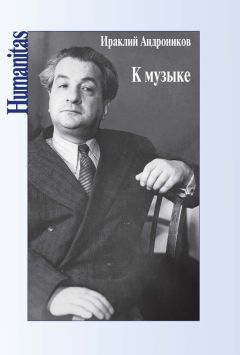* «Завтра ему не поздоровится, бедному мальчику» (исп.).
на сцену прыжком через несколько ступенек с ловкостью дикаря, как и подобает по роли. При первых же возгласах — два раза произнесенное слово «нет» на нотах си-бемоль и ре в среднем регистре— я заполнил зал мощным звучанием. Почувствовал голос свободным и непринужденным, ожидающим только моего приказа, чтобы вырваться и разлиться потоком во всю свою силу.
После первых фраз: «Царица, не говори» и «Если ищете вола, чтобы он работал» — и особенно в конце этой последней фразы, где я останавливался на протянутом, чистейшем натуральном соль, разрешавшимся в до,— вся публика, как один человек, разразилась грандиозными аплодисментами. Но я остался неподвижным посреди сцены, не выражая благодарности, а как бы продолжая жить в образе. Когда я уходил за кулисы, то заметил, что в ложе на просцениуме, где сидела комиссия, разгорелся оживленный спор, предметом которого оказался я. Чернобородый председатель все время повторял: «Ese hombre meha tornado el pelo».* Во втором действии, после молитвы «О Брама, о великий бог» публика снова разразилась аплодисментами. Но апогея достиг мой успех после фразы «Внимание, моряки!» и после знаменитой баллады «Адамастор», которую мне пришлось бисировать. Публика была мною завоевана. Последняя спица в колеснице стала вдруг фигурой первого плана. Впрочем, это сравнение не совсем удачно. Надо сказать иначе: я стал кумиром толпы. Дон Джоан сиял. Он обнял меня и сказал, что я выиграл решительное и опасное сражение. Все приходили меня поздравлять. Председатель с черной бородой, еще более величественно выделявшейся на белой манишке, считал, что придя приветствовать меня в обществе дона Джоана, оказывает мне великую честь. Постучав в закрытую дверь моей уборной, он, конечно, назвал свое имя и звание. Уверенный теперь в успехе и памятуя все уничтожающие и оскорбительные отзывы, высказанные им по моему адресу, я ответил, что не желаю, чтобы меня тревожил кто бы то ни был. Но он настаивал и, думая, что я не расслышал, повторил что меня желает видеть дон Педро де Варгас, председатель комиссии. Дон Джоан поспешил обратиться ко мне с просьбой открыть дверь, но я очень ясным и громким голосом ответил: «Ни в коем случае!» И не удержался от того, чтобы не прибавить, что визит синьора Педро де Варгас не является для меня желанным, и я не собираюсь
* «Этот человек над всеми нами издевался» (исп.).
его принимать. Бородач удалился, возмущенный, требуя, чтобы и я и дон Джоан полностью ответили за те оскорбления, которые я позволил себе нанести его особе. Дон Джоан пустил в ход всю дипломатию, на которую был способен; он рассыпался в извинениях, говоря, что артисты — существа ненормальные и в большинстве случаев не отвечают за свои поступки. Перед четвертым действием я вышел в фойе артистов и встретил там дона Джоана. Он сказал, что я слишком много позволил себе в отношении председателя и что должен буду после спектакля принести ему извинения. В эту минуту я увидел бородача. Он под руку с Миртеей стоял не так далеко от нас и мог превосходно слышать мой голос. Тогда я очень громко ответил дону Джоану, что считаю нелепым приносить извинения человеку, который с самого первого дня оскорбил меня публично, наградив такими эпитетами, как «бессовестный», «тупой» и тому подобное. Но по лицу председателя я видел, что он уже все позабыл, плененный воздушным нарядом Миртеи, которая, невероятно кривляясь, коварно улыбалась ему своим порочным ртом.
Вернулся я в гостиницу несколько опечаленный, так как не видел на спектакле «темноволосой синьоры», и тотчас справился о ней у хозяина. С величайшим огорчением я узнал, что она весь вечер оставалась в гостинице, так как ей пришлось перенести легкую операцию в гортани. Очень взволнованный, я признался тогда хозяину в том чувстве благоговейного преклонения, которое я с первого дня питаю к синьоре, и попросил, чтобы он завтра пошел лично справиться о ее здоровье. Почти всю ночь я провел без сна. Зная, что она больна, мне хотелось быть с ней, рассказать о своем успехе, поддержать ее. Когда мне принесли в комнату утренние газеты с рецензией, полной похвал моему голосу и моей трактовке образа Нелюско, мне неудержимо захотелось пойти к ней, самому прочесть все, что обо мне пишут, и сказать ей, что я, по существу, и пел и играл всей душой... только для нее, только, чтобы доказать ей, что я вовсе не такой мальчишка, каким показался ей тогда, на пароходе.
Вскоре меня пригласили на одну из первых репетиций «Бал-маскарада». Зная, что и она должна была принять участие в этой репетиции, но не сможет сделать этого по болезни, я решился написать ей. Вот как я к ней обратился: «Глубокоуважаемая синьора, вас удивит это мое письмо, но я случайно узнал о вашем нездоровье и страшно этим огорчен. Мне так хотелось, чтобы вы присутствовали при моем успехе.
Питаю к вам чувство глубокой благодарности за добрый и строгий совет, который вы дали мне на пароходе. Ваши слова сделали меня другим человеком. Я чувствую себя теперь более серьезным, более взрослым и хотел бы лично выразить вам то, что чувствую внутри. Знаю, однако, что у меня на это не хватит смелости. Простите меня. Выздоравливайте скорее, прошу вас, так как вы приносите с собой и свет и радость жизни. С совершеннейшим почтением Титта Руффо». Я послал это достаточно наивное письмо вместе с большим букетом роз. Впоследствии я узнал, что мое почтительное внимание тронуло ее сердце, тем более, что оно попало в горестную для нее минуту. Дирекция театра сообщила ей, что, поскольку прошло шесть льготных дней, предусмотренных в контракте, а она до сих пор не может приступить к репетициям «Бал-маскарада», договор с ней считается аннулированным. Таким образом, ей предстояло уехать или же последовать совету заинтересованного в этом деле дона Джоана и принять покровительство председателя комиссии. Она решительно отвергла это предложение. Ее моральный облик был не менее прекрасен, чем внешняя красота. Я был в отчаянии. Мне хотелось перевернуть весь мир, чтобы только прийти ей на помощь.
Когда я спустился в салон, там среди других вертелся тенор Кастеллано. Поздравив меня с успехом, он повторил снова, на этот раз с каким-то кислосладким видом: «Скоро удостоишься чести петь вместе с Кастеллано». Но я не дал ему кончить фразу и сухо ответил: «Также и тебе выпадет честь петь с Титта Руффо». Однако, как настоящий южанин, который никогда не теряется, он сразу нашелся: «Ну,— сказал он,— много времени пройдет, прежде чем для меня это окажется честью». «Конечно,— ответил я,— но когда ты уже придешь к концу своего артистического пути, передо мной будут еще многие годы деятельности».