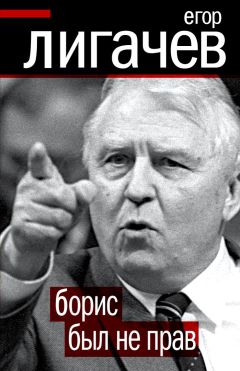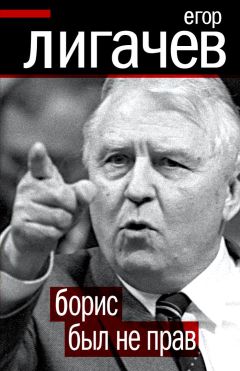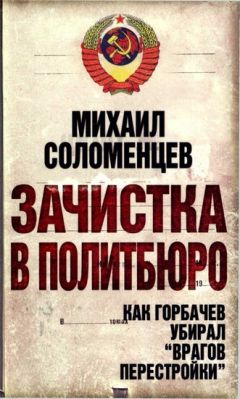Не вольным поселением, а застенками ежовско-бериевского НКВД печально славилось Колпашево в тридцатые годы.
Но, конечно же, о том, что творилось в тех застенках, никто в народе не знал, лишь молва глухо доносила слухи о жестокостях, расстрелах. И вдруг весной 1979 года случилось в Колпашеве происшествие, которое страшно напомнило о тех временах.
В тот год паводок на Оби был необычайно сильным. Высокая вода подмыла обрыв, на котором когда-то стояла пересыльная тюрьма, берег рухнул, и обнажилось… массовое захоронение, существовавшее на территории тюрьмы.
Как же поступили? По Оби подогнали два земснаряда и поскорее уничтожили остатки обрыва, вымыли в реку потаенное кладбище, зримое напоминание о сталинских жертвах.
Естественно, в те годы, как бывало и раньше, это событие осталось неизвестным, его скрыли от общественности. Но когда пришла пора гласности, о колпашевском происшествии вспомнили. Газеты рассказали о событиях 1979 года, справедливо, с чувством негодования осудив варварское отношение к захоронению жертв репрессий. Но поскольку в ту пору я был первым секретарем Томского обкома КПСС, то общественному сознанию стали навязывать мнение, будто все — абсолютно все! — в области делалось исключительно по указанию обкома; уничтожение тайного, безымянного кладбища стали приписывать обкому партии, намекая на то, что, мол, чуть ли не я сам отдал приказ поступить столь чудовищным образом — спрятать концы в воду.
Разумеется, никаких фактов, подтверждающих причастность обкома партии, и мою в том числе, к этому не было совершенно. А напрямую предъявить столь серьезное обвинение при отсутствии фактов не рискнула даже праворадикальная пресса. В ход опять пошли намеки, экивоки. И наконец появилось требование, чтобы в колпашевской истории разобралась прокуратура.
Считал и считаю правильным стремление разобраться в случившемся, попытаться установить имена погибших в Колпашеве и увековечить их. Но, к сожалению, даже к этому святому делу кое-кто начал примешивать сиюминутные политические расчеты. В частности, радикалы принялись настаивать, чтобы происшествием в Колпашеве занялась новосибирская прокуратура, а не томская, которая якобы не беспристрастна и будет защищать обком партии, его бывшего первого секретаря.
Что касается лично меня, то я, знавший некоторые обстоятельства колпашевской истории, разумеется, был уверен в отношении любых разбирательств, кто бы ими ни занимался — будь то прокуратура томская, новосибирская или московская. [8]
Меня огорчало, более того, глубоко угнетало другое: в борьбе за власть оппоненты пытаются разыграть даже такую карту, как святая для меня задача увековечения памяти жертв незаконных репрессий.
Для этого у меня были личные основания.
О том, что такое тридцать седьмой год, я знаю не понаслышке, изучал это трагическое время не по книгам, а познавал на собственном горьком опыте жизни. Моего отца, сибирского крестьянина Кузьму Лигачева, отправившегося из деревни на заработки в Новосибирск, в тридцать седьмом исключили из партии (правда, потом восстановили). А вот отец моей жены коммунист Иван Зиновьев в те годы погиб — был репрессирован и расстрелян.
В гражданскую войну он был красноармейцем, потом, получив образование, служил в Наркомате обороны, в Московском военном округе. К середине тридцатых воинское звание у него было уже весьма высокое — по нынешним меркам генерал-лейтенант. И в 1935 году, когда Сталин начал отсылать генералов из Москвы, Ивана Зиновьева направили начальником штаба Сибирского военного округа. А затем, как известно, на военных обрушились массовые репрессии. В декабре 1936 года Зиновьева арестовали. В июне 1937 года судили, обвинив в шпионаже и еще в том, что его деятельность была направлена на ослабление боеготовности войск округа. Весь «суд» длился десять минут. А через два часа после объявления приговора «англо-японо-немецкого шпиона», который полностью отверг все обвинения в предательстве, расстреляли.
Об этих страшных, безмерно тяжелых для каждой семьи репрессированного подробностях я, между прочим, узнал только в конце мая 1989 года, во время первого Съезда народных депутатов СССР, когда представилась возможность ознакомиться с архивным делом, заведенным на Зиновьева в 1936 году. Тот съезд вообще был для меня периодом очень нелегким. С клеветническими нападками обрушился Гдлян. Радикалы стали требовать ухода в отставку. Заболела жена Зинаида Ивановна… В общем, беда не приходит одна. А когда мы в семье познакомились с архивным делом тридцатых годов, Зинаида Ивановна расплакалась:
— Что же это за судьба у меня такая? Раньше была дочерью «врага народа», теперь стала женой «врага перестройки»…
Ее отца, расстрелянного в 1937 году, я хорошо помню, это был очень живой, интересный, яркий человек, хороший оратор (однажды в Новосибирске я был на его лекции по международным вопросам), по моим понятиям — самородок. Кстати, поженились мы с Зинаидой Ивановной сразу после войны. И в этой связи не могу не вспомнить одно из писем, полученных мною, когда началось «дело Гдляна» и сотни, тысячи людей посчитали нужным выразить мне свою поддержку. И.А.Спирина из Москвы писала: «Уважаемый Егор Кузьмич! Мне ясно, кто вы и что вы очень порядочный человек, если в сталинские годы вы не побоялись жениться на дочери репрессированного „врага народа“. Этот факт вашей биографии говорит о многом».
Скажу откровенно, это письмо тронуло меня до глубины души. Действительно, до 1953 года, до смерти Сталина, я очень чувствовал, что означало быть женатым на дочери репрессированного генерала. Об этом обязательно полагалось указывать в анкете. Я знал случаи, когда сурово наказывали людей, скрывавших такого рода подробности своей биографии, — анкеты в ту пору проверялись сверхтщательно, месяцами. Короче говоря, человек с такой анкетной записью считался как бы второсортным. При случае ему могли напомнить о незримом клейме «враг народа», витавшем над семьей. А за напоминанием могли последовать и вполне определенные выводы.
В 1949 году и мне основательно напомнили об этом.
В то время я уже работал первым секретарем Новосибирского обкома комсомола, и по нашей инициативе на заводах и в колхозах начали создавать молодежные бригады. Это было широко распространено в войну и давало хорошие результаты на производстве. Мы считали, что молодежные коллективы нужны и в мирное время. Казалось бы, что тут дурного? В Москве рассудили иначе. Меня обвинили в том, что я будто бы пытаюсь оторвать молодежь от партии, и навесили грозный ярлык «троцкиста».
Но я ведь был не рядовым комсомольцем — первым секретарем обкома! Отчет нашего обкома слушали в Москве, на заседании бюро ЦК ВЛКСМ, проходившем под председательством Н.А.Михайлова, первого секретаря ЦК комсомола. При этом мое положение осложнялось одним опасным для меня обстоятельством. До этого было раскручено трагическое «ленинградское дело». По этому делу был привлечен второй секретарь ЦК ВЛКСМ, бывший первый секретарь Ленинградского обкома комсомола Иванов — умнейший человек. У меня с ним были добрые отношения, он меня поддерживал, и об этом знало руководство ЦК. Иванов был оклеветан, осужден и погиб — случившееся с ним я переживал страшно, не мог, конечно, поверить в его виновность. Да еще зная судьбу генерала Зиновьева.