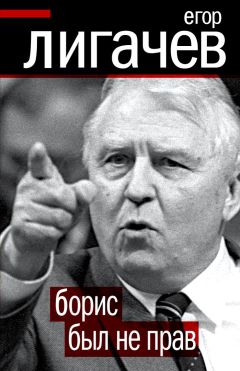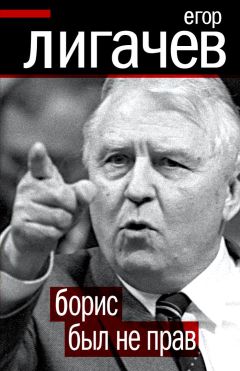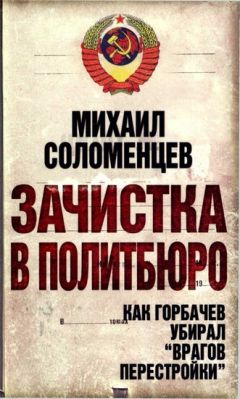Но я ведь был не рядовым комсомольцем — первым секретарем обкома! Отчет нашего обкома слушали в Москве, на заседании бюро ЦК ВЛКСМ, проходившем под председательством Н.А.Михайлова, первого секретаря ЦК комсомола. При этом мое положение осложнялось одним опасным для меня обстоятельством. До этого было раскручено трагическое «ленинградское дело». По этому делу был привлечен второй секретарь ЦК ВЛКСМ, бывший первый секретарь Ленинградского обкома комсомола Иванов — умнейший человек. У меня с ним были добрые отношения, он меня поддерживал, и об этом знало руководство ЦК. Иванов был оклеветан, осужден и погиб — случившееся с ним я переживал страшно, не мог, конечно, поверить в его виновность. Да еще зная судьбу генерала Зиновьева.
А совсем скоро и сам был обвинен в «троцкизме»… Казалось бы, слушали отчет обкома, и ведь было о чем говорить, — мы старались, немало делали, но, понятно, у нас было немало недостатков, — а вот упреки посыпались в «троцкизме». На бюро разговор начал Михайлов, приписавший мне стремление оторвать молодежь от партии. Все время подчеркивал: так поступали троцкисты. Я пытался было защищаться, однако слушать не стали. Члены бюро, разумеется, знали, что моя жена — дочь репрессированного генерала. Прямо никто этого не произносил, но я-то чувствовал, что этот факт витал в воздухе. Короче говоря, политический приговор был вынесен быстро: снять с должности первого секретаря обкома комсомола!
Парадокс заключался в том, что я по неопытности в то время вовсе не испытывал чувства опасности. Видимо, недопонимал всей серьезности создавшегося положения. А, может быть, просто сказался характер: поскольку совесть моя была чиста, я предпочел не прятаться, а, что называется, полез на рожон. И потому сгоряча написал письмо в ЦК КПСС, где изложил суть дела и просил в нем разобраться.
Буквально дня через два-три меня вызвали в оргинструкторский отдел ЦК партии. Товарищ, к которому попало мое письмо, сидел в небольшой комнате не один. Там еще был стол, за которым работала какая-то женщина. Разговор, помню, начался неторопливо, с того, что инструктор принялся расспрашивать меня о жизни, о молодежных рабочих бригадах…
В это время женщина поднялась и вышла, держа в руках какие-то бумаги. Мы остались одни. И вдруг разговор сразу же приобрел совсем другой характер. Инструктор, фамилию которого я, к величайшему сожалению, не запомнил, сказал мне:
— Товарищ Лигачев, очень вам советую никуда больше не обращаться, и, пожалуйста, поскорее уезжайте домой. Вы меня хорошо поняли? Очень советую: никуда больше не обращайтесь. А я доложу, что беседа с вами состоялась.
Видимо, у меня в тот момент был слишком недоуменный, даже ошарашенный вид, и инструктор, кивнув на соседний стол, продолжил:
— А вы знаете, кто эта женщина? Это товарищ Мишакова… Ну что, до свидания?
Только на улице я осознал все происшедшее. Мишакова была той самой «сверхбдительной» особой, которая «разоблачила» первого секретаря ЦК ВЛКСМ А.Косарева, о ней в то время много писали, ставя в пример. Если бы мое письмо попало для разбирательства в ее руки, очень вероятно, судьба моя сложилась бы иначе. Но мне отчаянно повезло. И тот случай показал: в ЦК, да и в других органах работали разные люди. Среди них было много людей порядочных, понимавших, что происходит в действительности, и в меру своих сил пытавшихся помочь тем, кому грозила беда. Мне ведь действительно помогли. Попросту говоря, меня спасли — а я вот в тревоге и волнениях тех дней даже не запомнил фамилию своего спасителя… Он нарочно тянул со мной разговор, дожидаясь того момента, когда мы останемся один на один. И, как символ, назвав фамилию Мишаковой, объяснил тем самым, чем я рискую, если буду продолжать поиски правды.
Вернувшись в Новосибирск, я внял доброму совету, который дали мне в ЦК КПСС. Не стал больше никуда жаловаться, обращаться за восстановлением справедливости. Но зато и на работу меня нигде не брали — семь месяцев был безработным. Трудно очень пришлось. Семья жила на зарплату Зинаиды Ивановны, которая преподавала английский язык в педагогическом институте. Я уж не говорю об угнетении моральном.
А спустя ровно сорок лет, в 1989 году, когда газета «Комсомольская правда» выпустила свой юбилейный номер, собрав в нем материалы разных лет, была вновь напечатана давняя заметка бывшего корреспондента «Комсомолки» Григория Ошеверова, который сообщал о пленуме Новосибирского обкома комсомола, снявшем с работы бывшего первого секретаря Е.Лигачева.
Заметка была помещена без комментариев и породила немало досужих разговоров, а также откликов в прессе, по радио. Кое-кто из молодых журналистов начал даже на нее ссылаться — в качестве доказательства, что Лигачев, мол, еще в комсомольские годы был снят с работы за какие-то там непонятные делишки. На первый взгляд, перепечатка в «Комсомольской правде» заметки 1949 года — мелочь, газетный курьез, не более. Поначалу я так ее и воспринял, не придал ей значения. Но затем я понял, что нельзя это рассматривать в отрыве от всего того, что происходит в антисоветских средствах массовой информации.
Это горько, тревожно. Это опасный призрак прошлого.
А что касается давних обвинений в «троцкизме»… Семь месяцев я попросту бедствовал и хорошо понял тогда, кто тебе истинный друг, а кто — так себе, случайный попутчик. Были люди, которые от меня отшатнулись. Но зато были и другие — те, кто поддержал, не разорвал дружеских отношений, а в трудные времена это ценишь особенно. Благодаря им я не озлобился на жизнь. Наоборот, твердо уверовал, что рано или поздно в ней обязательно побеждает добро, справедливость. Я верил и верю людям.
На авиационный завод имени Чкалова, где я работал после окончания института, меня, разумеется, не взяли: не прошел по анкетным данным — оборонное предприятие. Пришлось основательно помыкаться, пока, наконец, что особенно было неожиданно для меня, предложили пойти лектором в Новосибирский горком партии. [9]
Но окончательно вздохнул, распрямил плечи и понял, что самые страшные годы позади, — нет, даже не после смерти Сталина, а только после XX съезда КПСС.
Сказанного, думаю, вполне достаточно для того, чтобы понять и в полной мере оценить мое отношение к культу личности, к репрессиям. Вот почему с горькой улыбкой читал я иные публикации, в которых меня упрекали чуть ли не в желании вернуть прошлые времена. Как уже не раз говорил, отношусь к истории серьезно — воспринимаю ее целиком, многомерно, во всей полноте. Хорошо вижу в ней темные, трагические пятна, но по достоинству оцениваю и то положительное, то прекрасное, чего добились наша страна, наши люди. Я категорический противник черно-белого видения истории по принципу «или-или». Да, история неоднозначна, но ее недопустимо эксплуатировать в сиюминутных политических целях. Не уважать своих предков — постыдное малодушие, писал Пушкин.