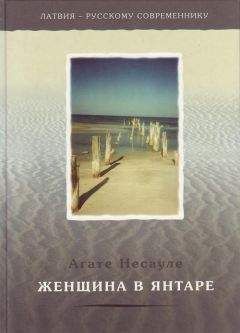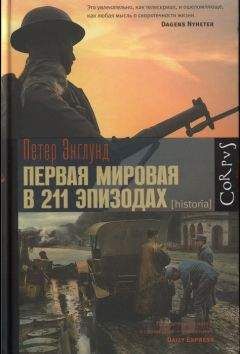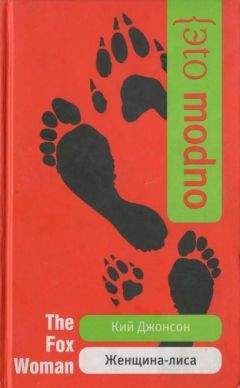— Дядя Жанис! — она касается его рукава.
Он узнает племянницу. Вежливо кланяется, после чего девочка бросается его обнимать, обвивает его шею руками. На мгновение она чувствует облегчение, но тут же понимает, что все изменилось. Этот запах пота и пыли вместо аромата его любимой английской лимонной туалетной воды.
Он бросает взгляд на дом, большинство окон которого затянуты шторами, чтобы спрятаться от солнца. Вокруг очень тихо.
— Ты, кажется, одна не спишь?
Он гладит девочку по щеке.
— Да, все спят.
— Царь отрекся.
Слова ужасны, но ничего не говорят. Он, понимая это, добавляет:
— Царя бросили в тюрьму. И всю его семью. Теперь их больше ничто не спасет, поздно.
Из коптильни прибегает Федор. Он падает на колени и пытается поцеловать Жанису руку.
— Я запалил огонь, ваше благородие, — говорит он.
Жанис, смеясь, поднимает его с колен. Потом пытается поздороваться с Федором за руку, но крестьянин, оторопев, пятится назад.
— В великой Российской Социалистической Республике не будет ни господ, ни слуг, никаких благородий и целования рук. С этим покончено.
Жанис берет Валду за руку, вместе они бегут к коптильне. Лошадь легкими медленными шагами следует за ними.
— Кто-то должен быть свидетелем, — говорит он, — это история.
Но Валда видит только рану на его щеке, грязный мундир и голую грудь под белой шерстяной тканью.
— Это ничего, моя дорогая. Я жив, в отличие от многих других. А сейчас, может быть, и царь уже мертв.
Он подзывает Федора.
— Давай свою одежду, рубаху и штаны.
Федор пятится еще дальше.
Жанис бросает молниеносный взгляд через плечо, потом снова обращается к Федору.
— Да, да, да, так надо. А ты можешь взять вот это, бери.
Жанис сует в руку Федору свои золотые часы.
Федор смотрит на него во все глаза, потом медленно принимается стягивать рубаху.
— Туда, за печь! — приказывает Жанис.
Расстегивает подседельную сумку, откладывает в сторону черный револьвер и достает пачку документов.
— Я хочу, чтобы ты это запомнила, — обращается он к Валде.
Он сжигает свое свидетельство о рождении, университетский диплом, офицерское удостоверение, благодарности за отличную службу, орденские ленты, медали, носовые платки с вышитыми монограммами, комплект щеток из слоновой кости.
Он уходит за перегородку, где стоит Федор в исподнем и прижимает к уху часы. Жанис натягивает грубые серые штаны, туго подпоясывается веревкой, натягивает на глаза кучерский картуз. Из своего белого мундира делает сверток, сует его в топку, захлопывает дверцу. Она плотно не закрывается, он еще раз хлопает ею, сильнее. Пытается натянуть сапоги Федора, но они ему малы, и он надевает свои.
— По крайней мере, обувь будет удобная, хоть что-то. Отличные сапоги, — теперь он совсем не похож на себя.
— Ты куда сейчас? Куда пойдешь?
— В леса. В прекрасные необъятные леса матушки России.
У Валды много вопросов к нему, но он спешит.
— Когда ты вернешься?
— О, моя дорогая, не знаю. Может быть, никогда.
Он заметил слезы на глазах у Валды, приподнял ее голову за подбородок, другой рукой вытер щеки.
— Я постараюсь вернуться, но им скажи, чтобы меня не ждали. Пусть спасаются сами, это сейчас самое главное.
— Жанис!
— Все будет хорошо. В лесах замечательно. Глушь, грибов и ягод сколько душе угодно, жить можно вечно, из лесу и выходить не надо.
— Ну, пожалуйста, скажи хотя бы папе! — просит она.
— Нет, время дорого, за мной гонятся.
Рука Жаниса автоматически тянется к кобуре. Неожиданно он коротко смеется.
— Ты думаешь, родные узнали бы меня?
Тут Валда громко заплакала.
— Ну, не плачь, — произносит он. — Я умирать не собираюсь. Приключения, любовь, красивые крестьянские девушки — все у меня будет. А у тебя в лесу появятся маленькие кузены и кузины. Не плачь.
Он целует Валду и вскакивает на коня. Валда смотрит ему вслед, пока он не скрывается в темном лесу за домом.
Я пытаюсь представить, что именно так мама потеряла любимую Россию, но полной ясности так никогда и не добьюсь. Я узнаю, что ее подружку Варвару арестуют, а потом расстреляют. После того, как семья Валды истратила все спрятанные в ее толстых косах золотые монеты, они собирали соль и меняли ее на еду. Пешком они прошли через всю Россию, постоянно опасаясь за свои жизни, и добрались до Латвии.
Отец умер в год их возвращения, и мама так никогда и не получила обещанного университетского образования. «Я позабочусь о том, чтобы ты получила такое же образование, как твои братья, я тебя люблю так же сильно, — всегда говорил ей отец. — Тем более что женщины тоже должны быть образованными, как мужчины».
Мама окончила только Учительский институт, потом работала учительницей в сельской школе. Она посылала деньги матери, которая пересылала их сыновьям, чтобы те смогли получить университетское образование. Она совершала нелегкие поездки в Ригу, откуда привозила баллоны с кислородом для младшей сестры Велты, которая умерла от туберкулеза в тот год, когда старший брат окончил теологический факультет. Дядю Жаниса она так больше никогда и не видела. А потом, в 1940 году, Латвию оккупировали русские, в 1941 году — немцы, в 1944 году — снова русские. Перечислять потери невыносимо, и я радуюсь, что она об этом не заговаривает.
Арбуз мы съели. Мама говорит:
— Я немного устала. Прилягу на полчаса, перед работой.
Она наклоняется, снимает туфли. Ноги у нее чуть припухшие, но не такие, как летом. На левой ступне большой шрам, он похож на родимое пятно размером с двадцатипятицентовик. Летом, до революции, она поранила ногу о камень в одной из ледяных речушек, где они с братьями обычно купались. В рану попала земля, потом рана затянулась. В Латвии папа и дядя Яша, младший мамин брат, хирург, пробовали уговорить ее вычистить землю, но она не захотела. «Это земля матушки России», — обычно говорила она. Сейчас о ране никто и не вспоминает.
Мама ложится на узкую кровать, подсовывает под спину побольше подушек и берет книгу. Читать она не собирается, но берет книгу, потому что снова хочет остаться одна. Мне же хочется, чтобы она меня утешила, помогла бы делать уроки, подсказала бы, как подружиться с другими детьми, купила бы мне другую одежду, в которой я не чувствовала бы себя такой отверженной. Я тоскую по лагерям для перемешенных лиц в Германии, где, по крайней мере, жила среди себе подобных, а не среди чужих, от которых здесь, в Америке, я буду отличаться всегда.
Шорох падающего мокрого снега за окном успокаивает. Засыпая, я думаю о своем сыне Борисе, Бориске, как звала я его маленького. Однажды в Мэдисоне в Валентинов день, когда ему было лет семь, мы шли с ним по Стейт-стрит.