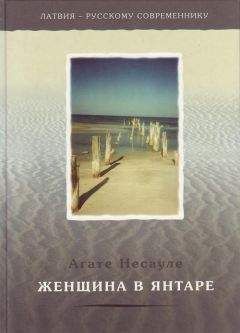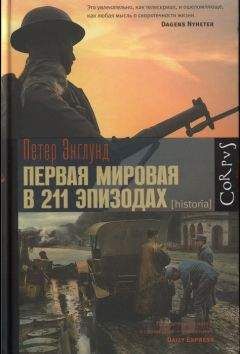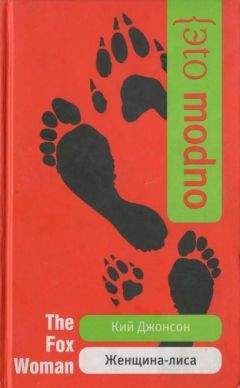— Что-нибудь случилось? — спрашивает Ингеборг. — Кажется, вы чем-то расстроены. Или это мне только кажется?
— Нет, ничего особенного. Я не могу похудеть. Стараюсь, стараюсь, но ничего не получается. Я ненавижу свое тело, — я замолкаю. — Я его презираю.
Сказать об этом Ингеборг оказалось очень легко. Для нее я все равно буду что-то значить, растолстей я вдвое, стань старой и морщинистой, выпади у меня все зубы.
— Это не все, — произносит она.
— Да. Я видела страшный сон.
Говорить легко, потому что Ингеборг спокойно воспринимает все, что бы я ни сказала, мы погружаемся в сумерки и говорим. Я пересказываю ей сон, который прячу, как невидимую рану. В комнате появляется Джон, голодный мальчик топчется у двери, приходит запоздалая мысль, что пора бы замолчать.
— Это ужасно, — шепчет Ингеборг, — особенно голодный мальчик. Странно, почему он вам приснился?
Неужто Ингеборг действительно не уловила суть сна, думаю я. Бросит меня Джон через неделю, через месяц, через год? Я хочу услышать от нее, что Джон не бросит меня, хоть Ингеборг с ним и не знакома.
— Вы никогда мне не рассказывали, что пережили в детстве, — продолжает Ингеборг. — Где вы были в свои семь лет?
В комнате безопасно, она отрезана от всего мира, защищена от жестокого, безжалостного искусственного освещения.
— Где вы были, когда вам было семь лет? — повторяет Ингеборг.
— В Германии. В русском секторе.
И оттого, что знаю — она никогда об этом не догадается, добавляю:
— Голодала.
Русские солдаты забрасывают озеро ручными гранатами. Они нетерпеливы, злятся. Среди них монголы с узкими, темными, злыми глазами. Когда оглушенная и изувеченная рыба всплывает на поверхность, они вытаскивают из воды только уцелевшую, лучшую. Они уже развели большой костер. Они пекут рыбу, едят теплую, сладкую мякоть с ломтями черного хлеба. Они будут пить, кричать, петь и танцевать. Запах рыб и хлеба будет витать над голодными детьми, которые стоят по ту сторону забора из колючей проволоки, смотрят, ждут.
Может быть, какую-нибудь из оглушенных солдатами рыбы прибьет ближе к берегу и она еще не протухнет к завтрашнему утру, когда солдаты уедут? Может быть, солдаты, досыта наевшись, остатки рыбы и хлеба отдадут детям? Достанется лишь некоторым, а кому — неизвестно. Может быть, солдаты рассердятся на детей, которые стоят и ждут, и прогонят их, размахивая прикладами. Дети вернутся, чтобы их прогнали во второй раз. Может быть. Им остается только ждать.
Может быть, солдаты выкинут ненужные им рыбьи головы, чешую, а то и целых рыбок. Дети начнут драться за них, и лишь некоторым достанется кое-что. Большинство вернется домой, стыдясь своих пустых ведер. Им будет стыдно, если они окажутся победителями в этой драке за рыбу, но еще больше — если им не достанется ничего. Они знают, что не заслуживают еды.
В очереди стоят две девочки — семи и восьми лет, скорее всего, сестры. Волосы зачесаны ото лба и заплетены в две тугие косички. На девочках очень короткие темно-синие в белый горошек платья, словно бы они из них давно выросли, на плечах платья висят, свободно болтаются. Кожа бледная, руки и ноги как прутики. У одной под мышкой большая пустая миска, вторая держит в руке пустое ведро. Старшая сестра темноволосая, глаза ее при других обстоятельствах были бы веселыми и озорными, у младшей волосы светлые, выражение глаз мягче, покорнее.
Они не сводят взгляда с рыбы на сковородах и с хлеба в корзинах, но лица ничего не выражают. Руки напряжены, слегка приподняты, чтобы не раздавить гнойники под мышками. И стоят они, слегка расставив ноги, чтобы не соприкасались гнойники под короткими платьицами и прохудившимися ситцевыми трусиками. На них падает свет от костра. Девочки уже не испытывают чувства голода, оно исчезло очень, очень давно. Если понадобится, они готовы ждать всю ночь.
Солдаты пьют водку, передавая бутылку из рук в руки, пьют большими глотками, передергиваются и удовлетворенно крякают. При свете костра их узкие глаза и высокие скулы, темная кожа кажутся совсем нездешними. Один принимается играть на аккордеоне, остальные встают в круг. По очереди они пляшут, высоко взмахивая ногами. Они пляшут казачок. Скрестив на груди руки, приседают и ловко выкидывают ноги в стороны, соревнуются, кто дольше удержит равновесие. Остальные хлопают в ладоши и галдят. Кое-кто уже просто бормочет, голоса грубые, слова непонятные. Они отворачиваются от товарищей в сторону девочек для того только, чтобы вывернуть из себя все или пописать. Сестры ждут.
На солдатах темно-зеленые мундиры, в свете костра они выглядят серыми, почти черными. Кое-кто в серых нижних рубашках, хотя трудно сказать, это их естественный цвет или они до такой степени грязные. За солдатами полукругом стоят темные грузовики и «виллисы». Еще дальше видны развалины домов, разрушенных во время бомбежки. Деревенской церкви больше нет, сиротский приют устоял, но и у него одно крыло повреждено пожаром. За забором из колючей проволоки, между детьми и солдатами, несколько пней, белеют их свежие спилы. Озеро почти черное.
Единственное яркое пятно во всем пейзаже — самый последний грузовик. Возле него сидят три женщины с гитарами и балалайками. Фургон превращен в настоящий султанский дворец: красные и вышитые золотом подушки, одеяла, разноцветные мигающие лампочки, на ветру полощутся атласные занавески. Когда солдаты напьются еще больше, они по очереди будут забираться внутрь с этими женщинами.
Женщины из поселка ходят в обтрепанной серой и черной одежде. Голову повязывают темными шерстяными платками, пачкают щеки грязью, при встрече с солдатами опускают глаза, жмутся к стене, прячутся. И все равно большинство из них изнасилованы. Женщины в фургоне веселые и смелые. На них яркие оранжевые, красные и желтые платья с пышными рукавами; золотые браслеты и бусы звенят, серьги в ушах раскачиваются. Их черные волосы блестят, тело мягкое и круглое, глаза сверкают. Женщины смеются, когда солдаты смотрят в их сторону.
Три женщины перебирают струны и тихонько поют. Им уже надоело ждать. Самая молодая возится со своим браслетом, смотрит сквозь него на свет, с удовольствием разглядывает его на своей полной руке, снимает, вертит в руке, приглашая двух серьезных сестричек, которые вместе со всеми детьми стоят за забором, подойти. Младшая сестра делает шаг к женщине, но старшая тянет ее назад.
— Не ходи, — произносит она, — она тебя дразнит.
Сестры продолжают ждать.
— Ах, так, — говорит Ингеборг, — но все же попытайтесь рассказать побольше. Кто эти дети? Почему вы говорите «они»? Это вы с сестрой? Рассказывайте о себе, попытайтесь говорить я и мы. Что вы чувствовали?