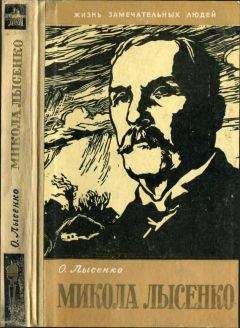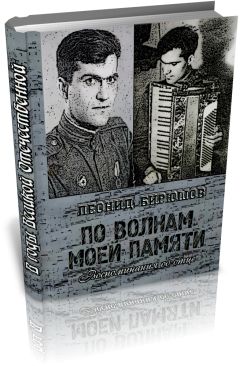Сон подкрадывается незаметно, и уже не облака, а богатырские кони плывут над Сулой, впереди боевой дружины — князь Игорь, за ним скачет, посвечивая своим золотым шлемом, буй-тур Всеволод.
Кони ржут за Сулою,
Звенит слава в Киеве…
По вечерам у старой водяной мельницы собирается «улица». Поют парубки и девчата.
Ой, Гандзю, милостива,
Чим ти брови намастила?
Купервасу купувала,
Чорні брови малювала, —
заводит парубок насмешливо, и сразу хлопцы лихо, с издевкой подхватывают:
Ой, Гандзю, кучерява
Під решетом ночувала.
Як решето продереться,
Гандзя лиха набереться.
Не остается в долгу и «Гандзя»:
Ой, ти дуб, я береза,
Ой, ти п’яний, я твереза,
Ой, ти старий, я молода,
Чом між нами незлагода.
Тот же насмешливый голос отвечает:
Ой, я дуб, ти береза,
Ой, я п’яний, ти твереза.
Ой, я старий, ти молода,
Тим між нами незлагода.
Чаще над Сулой плывут в это лето грустные, хватающие за сердце песни. Матери и жены, сестры и невесты, вдовы, даже не успевшие побывать под венцом, оплакивают своих сыновей и братьев, мужей и возлюбленных, убитых на Севастопольских бастионах в Крымскую кампанию:
Ой, на горі огонь горить,
А в долині козак лежить,
Накрив очі китайкою,
Заслугою козацькою.
Каркает ворон над головой, а у ног казака верный конь плачет, с хозяином-другом прощается. Бежать ему дорогой степной, широкой, через вражьи заслоны к родному дому… Выйдет мать, спросит:
Ой, коню мій вороненький,
А де ж мій син молоденький?
Лежит казак в чистом поле на чужой сторононьке. Не вернуться ему ни к дивчине — голубке своей, ни к родной матери, не ловить ему рыбу в Суле, не пахать, не сеять на земле, вспоенной кровью и потом предков.
И уже другой голос с тоской и тайной надеждой вопрошает:
Ой, вербо, вербо.
Де ты росла,
Що твоє листячко
Вода знесла?
Друзья не шелохнутся. В огромном дупле столетней вербы, бог весть когда расцеловавшейся с молнией, почти совсем темно. И непонятно, как удается Миколе записывать мелодию в нотную тетрадь, с которой все лето не расстается. В дупле, как уверяет Микола, романтичней.
Зато на ярмарке можно с Созонтом потолкаться вволю.
Не только с Созонтом. С двумя приятелями ходит по ярмарке еще один незримый дядько — насмешливый, все подмечающий Рудый Панько.
Недавно впервые прочитаны «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Тарас Бульба». Кузенам теперь на каждом шагу мерещатся гоголевские герои.
А Жовнин в ярмарку и впрямь Сорочинцы! Все, как у Гоголя, «кричит, гогочет, гремит. Шум, брань, мычание, блеяние, рев — все сливается в один нестройный гул». Волы, мешки, сено, цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется перед глазами.
Чего только нет на той ярмарке: деготь, тютюн, круторогие ленивые волы, кони подозрительного возраста, возле которых суетятся, галдят цыгане. Чумацкие возы с рыбой и солью, высокая гончарная гарба, а вокруг — ярко расписанные глиняные красавцы — макитры, миски и полумиски.
Не Хивря ли, краснощекая, дородная, в который раз пробует на звон малюсенький горшочек, заодно переругиваясь с рассерженным не на шутку гончаром?
А вот этот загулявшийся хозяин в широких полотняных шароварах не Солопий Черевик?
И ему, видно, хочется туда, где «багацько грому», где не достанет его злой глаз разгневанной супруги.
…«Встает хмара з-за лимана…». Незнакомая мелодия останавливает Миколу. Не без помощи Созонта проталкиваются братья-приятели сквозь густую толпу, окружившую певца.
Он сидит на земле, старый слепой кобзарь. Скорбно гудит кобза, а по неподвижному лицу из пустых глазниц текут, не переставая, слезы.
…Дома друзья застают уже запряженный возок. Это за ними, молодыми панычами, прислал нарочного Александр Захарович, родной дядя Михаила.
В Клишинцы, в гости — лучшего праздника и не надо!
Юношей, вопреки родительской воле, женился Александр на крепостной девушке. «Омужичился», стал «Олексашей», как судачили соседи.
Это не помешало кузенам полюбить дядю, как отца родного.
Радушию и гостеприимству его не было предела. А каким затейником был! Чуть что — охота, рыбная ловля. С неводом, ятерями и подсаками выбирались к заливам Сулы.
На костре готовили ужин.
— Лучшей ухи из животрепещущей рыбы, лучшего кулеша, заправленного салом и сваренного с дикими утками, — вспоминал Михаил Петрович, — я после не едал нигде.
Александр Захарович — любитель и знаток на родной песни, восторженный поклонник Тараса — поругивал Миколу за плохое знание родного языка.
— Ну, тебе, Михайло, можно хоть сейчас у «Запорожский кош», а Микола еще «паненя», хоть и с казачьим сердцем.
Именно в доме Александра Захаровича Микола Лысенко впервые познакомился с «Кобзарем» Шевченко. Нашлась у него и «Энеида» Котляревского.
И уж совсем не случайно, что многие народные песни были записаны будущим композитором со слов и по просьбе дяди Олексаши.
— Пиши, пиши, Микола! Кто знает! Может, и в нашем леху каганца[6] засветишь, — ободрял он племянника.
Как это нередко бывает с неразлучными друзьями, кузены в одно и то же время впервые влюбились, и в одну и ту же девицу. Жовнинских панычей пленило маленькое кокетливое существо, не то «крулевна полева», не то сирена, прекрасно владеющая польским, украинским, русским и французским языками, а еще лучше — глазками.
В будущем побратимам суждено было долгие годы вместе тянуть многострадальный воз украинской культуры, не одно творение породит их дружное соавторство, но первое совместное произведение (слова Старицкого, музыка Лысенко) создано в честь обворожительной Текли — Теклюни:
О ты, прелестное созданье,
Небесных радостей фиал,
Дай хоть единое лобзанье
За наш сердечный мадригал.
И тут не обошлось без Созонта. Пользуясь отсутствием старых господ, он велел заложить экипаж. Влюбленные панычи, в парадных гимназических мундирах, с красными в золоте воротниками, расселись важно, как настоящие кавалеры, а Созонт в ливрее примостился на козлах.
Так и прикатили в Гусиное к прекрасной панне и застали одну-одинешеньку (тетя третий день как уехала).
Панычи спели и поднесли мадригал, получили просимое «единое лобзание».