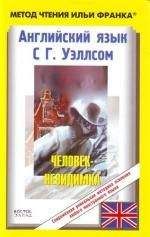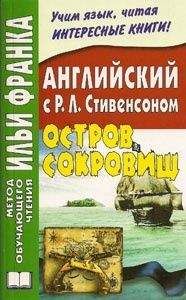Утром я, к своей великой радости, нашел немного таких же ягод, какие мне принесли в тростниковой корзине австралийцы, и устроил роскошный пир, а на следующий день отправился к моему шалашу на побережье. Здесь я прожил, очевидно, много месяцев — сколько именно, не могу сказать, — питаясь, как прежде, дарами моря; но со временем они стали попадаться реже — а может, это мне только казалось, — и я все чаще начал задумываться над своим плачевным положением.
Платье мое превратилось в клочья, ботинки износились, здоровье было подточено лишениями, а дух сломлен настолько, что я решил вернуться обратно на корабль — если он еще стоит в заливе — и присоединиться к своим товарищам. Быстро надвигалась зима, погода стала очень холодной и ветреной. Мне с каждым днем было труднее искать между скалами моллюсков, которых по той или иной причине становилось все меньше. И вот я распрощался с моей обителью и двинулся в обратный путь.
Однажды к вечеру дорогу, к моему ужасу, преградил утес, выступавший далеко в море. Наступил прилив, вода быстро прибывала. Мне не оставалось ничего иного, как вскарабкаться на скалу. С трудом взобрался я наверх и обнаружил большую пещеру. Я залез в нее. У меня уже несколько дней не было огня, и питаться мне снова приходилось сырыми моллюсками, которых я подбирал по пути. Только я приступил к своей скудной трапезе, как вдруг обнаружил, что занял жилище обитателей морских глубин, которые могли попасть к себе домой лишь во время прилива. Я пришел в ужас и никак не мог решить, что же мне делать: было уже почти совсем темно, животные плескались чуть ли не у самого входа, покинуть мое убежище — значило почти наверняка погибнуть в пучине. В этот момент я случайно задел ногой камень, он с шумом покатился, животные испугались и, налезая друг на друга, бросились прочь, оставив меня полновластным хозяином пещеры. Тут я провел остаток ночи, а утром побрел дальше[15]. Ослабев от перенесенных невзгод, я мог делать только небольшие переходы; ночи стали очень холодными, и порой силы и мужество совсем покидали меня. Несколько дней спустя я дошел до реки, которую местные жители называют Дуангоун, и в кустах устроил себе убежище.
Утром я увидел холмик, из которого торчал кусок копья, и догадался, что это могила. Копье я вытащил и взял с собой, чтобы опираться на него при ходьбе.
Через сутки я вышел к реке Карааф. Я был настолько изнурен, что с трудом преодолел сильное течение этой многоводной реки и при этом едва не погиб. Кое-как перебравшись на противоположный берег, я на четвереньках дополз до кустарника и улегся там, не в силах шевельнуть ни ногой, ни рукой, изнемогая от холода и голода. Помню, что я уже не надеялся дожить до утра и горько сожалел о своем опрометчивом поступке, из-за которого попал в беду. Долго я проникновенно молился богу, умоляя его смилостивиться надо мной и не оставлять без помощи и поддержки. Всю ночь страшно выли дикие собаки, словно в ожидании, когда, наконец, они смогут полакомиться моими останками. Я боялся, как бы они не напали, не дожидаясь моей смерти.
На рассвете я опять побрел, стараясь отыскать что-нибудь съедобное, и в конце концов дошел до места, которое австралийцы называют Маамарт. Здесь находится озеро или большая лагуна, окруженная густым кустарником и лесом. Я принялся искать смолу, о которой уже говорил выше, и за этим-то занятием меня застали две местные жительницы. Они долго наблюдали за мной из укрытия, а когда я в полном изнеможении рухнул на землю у подножия большого дерева, они, видя меня в столь беспомощном состоянии, кинулись к своим соплеменникам с известием, что видели большого белого человека. Австралийцы не замедлили явиться к указанному женщинами месту, где и застигли меня врасплох. Схватив мои руки, они принялись бить в грудь попеременно себя и меня, как это делали первые мои знакомые. Затем они помогли мне подняться на ноги и знаками показали, что понимают, как я голоден.
Женщины поддерживали меня под руки, мужчины издавали отвратительные вопли и рвали на себе волосы. Когда мы дошли до хижин, австралийцы вынесли нечто вроде, ведра из сухой коры с кашицей из смолы. Я с жадностью накинулся на еду.
Туземцы называли меня Муррангурк. Потом я узнал, что это имя человека из их племени, который похоронен на том месте, где я нашел кусок копья.
Австралийцы верят, что после смерти попадают в какое-то место, где становятся белыми людьми, а затем возвращаются в этот мир и начинают новое существование. По представлениям австралийцев, все белые люди до смерти принадлежали к их племени, а потом вернулись к жизни, изменив только цвет кожи.[16] И если туземцы убивают белых людей, то, как правило, лишь потому, что «узнают» в них своих личных врагов или людей из вражеских племен. Я же, по убеждению моих новых знакомых, был их соплеменником, убитым недавно вместе с дочерью в сражении и похороненным под тем самым холмиком, который я видел. То, что в руках я держал остатки копья, утвердило австралийцев в их мнении. Этому-то предрассудку я и был обязан тем, что они отнеслись ко мне с такой добротой.
Вскоре мои хозяева ушли, показав знаками, чтобы я их ждал. Возвратились они с несколькими большими жирными личинками, которые водятся обычно в гнилушках, особенно же между корнями, и предложили их мне. Вкусы мои к этому времени так изменились, что я нашел угощение весьма изысканным.
Ночь я провел с австралийцами, но, не зная их намерений, никак не мог отделаться от тревожных мыслей. Несколько раз я порывался бежать, да где там! Сил совсем не было.
Женщины все время жалобно причитали и выли, раздирая себе лица самым безжалостным образом.
Страх мой все рос, но особенно жутко мне стало утром, когда я разглядел, какой вид бедняжки приобрели за ночь. Они исполосовали себе лица и руки глубокими кровоточащими царапинами, а края их прижгли головешками.
Австралийцы знаками объяснили, что хотят отвести меня к своему племени. Сюда они пришли в поисках смолы. Мне оставалось только согласиться.
Мы прошли несколько миль по равнинной местности, иногда продираясь сквозь кусты, достигли реки Барвон и перебрались через нее. Тут показались на фоне тростника черные головы австралийцев. Мне они напомнили большую стаю ворон. Около ста мужчин пошли нам навстречу, женщины же продолжали выкапывать коренья, которые они употребляют в пищу.
Мои друзья, вернее, мои новые знакомые, с которыми я шел, взяли меня к себе. Их дом, как и все хижины туземцев, представлял собой шалаш из веток, кое-где покрытый кусками чайного дерева или древесной корой. Хозяева предложили мне сесть, но я предпочел стоять, чтобы иметь возможность лучше наблюдать за их действиями.