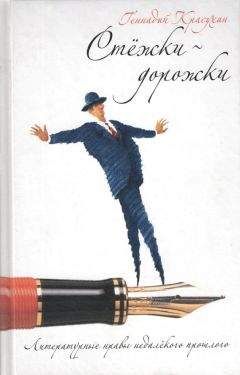А молчанию бывших гонителей Терца я не удивляюсь. Сам по себе Пушкин этих господ (то есть сами-то себя они называют товарищами) никогда и не интересовал! Они его и не знают!
Аристарх Андрианов пробыл в заместителях Золотусского очень недолго. Добрый, благожелательный, он, к сожалению, мог только не мешать, не подсиживать, что ценил Чапчахов и что не мог оценить Золотусский, который требовал от всех квалифицированной работы. Одно время вместе со мной в комнату посадили знатока новейшей литературы Борю Кузьминского, знакомого моего сына по университету. Он показывал мне свои статьи, напечатанные в разных изданиях. Написаны они были «суперстилем», как говаривала покойная Рена Шейко, но то, что он хвалил, мне не нравилось. Надвигалась эпоха «метаметафоризма» и постмодернизма, то есть, на мой взгляд, скучливой и претенциозной авторской игры, которая вряд ли когда-нибудь захватит читателя.
Помните, как жадно поначалу кинулись читатели на подобную литературу, особенно если автор долгое время жил на Западе? Эмигранты сбегали с трапа самолётов под аплодисменты муз, издавали свои книги, радовались успеху. Но недолго: высвободившиеся из-под гипноза имён, а главное стран, откуда прибыли новоявленные писатели, читатели потеряли к ним интерес. На что немедленно отреагировали издатели, прекратившие выпускать их книги.
Конечно, рынок диктует свои законы. И Дарья Донцова или Александра Маринина обречены выигрывать в читательском спросе на свою продукцию у классиков. Тем не менее интерес к Пушкину или Гоголю не угасает вот уже более полутора века. А вот останутся ли востребованными нынешние лидеры продаж и их авторы хотя бы на одно десятилетие? Как всякий рынок, книжный тоже следует за модой. А она переменчива и капризна.
В мае 1999 года пригласили меня в Сочи на пушкинскую конференцию, в рамках которой проходили выступления мэтра отечественной абсурдистики, метаметафористики и чего-то там ещё. Желающих послушать Дмитрия Александровича Пригова оказалось не мало. Удивило, что он предварял чтение стихотворений или цикла пространным объяснением: абсолютно серьёзно он рассказывал залу, что хотел сказать этим стихотворением, этим циклом. «Действительно, абсурдистика!» – подумал я. Ведь ещё Зощенко смеялся над теми, кто требовал от писателя именно таких разъяснений: чего хотел сказать автор этим своим художественным произведением?
Требование разъяснений предполагает, что автор зашифровал смысл написанного. И охотное предваряющее стихи объяснение Приговым свидетельствует: да, он зашифровал их смысл и даже в такой шифровке усматривает главную авторскую задачу. А с подобной задачей творчество превращается в словесную эквилибристику, в шараду. Мне скажут: метаметафористику в советское время загоняли в подполье, не давали ей развиться, она не вписывалась в литературу социалистического реализма. На мой же взгляд, она вообще не вписывается в литературу, она не имеет к ней отношения.
С постмодернизмом дело обстоит сложнее. Его основная стихия – использование чужих текстов в неожиданном или комическом сопоставлении, подмигивание знатокам, игровое начало – иногда приводит к художественным удачам. (В этом смысле мне кажется восхитительным по выражению духа эпохи стихотворение Тимура Кибирова с такими строчками: «Мы не увидели небо в алмазах. / Небо в рубинах увидели мы».) Когда цитата, оказываясь в чужом тексте, становится его органической частью, это обогащает смысл и старого и нового. Таков уж закон литературного процесса. Ведь и Пушкин много и часто заимствовал. Например, образ «гений чистой красоты» не пушкинский по происхождению. Его отцом, как известно, является Жуковский, у которого в стихотворении «Я Музу юную, бывало…» появился этот образ как символ бессмертия, вечного торжества вечной жизни. А Пушкин, заимствуя его, наполнил образ иным эмоциональным содержанием. Его «гений чистой красоты» – чудесное явление той, которая оживила поэту душу. Трудно представить, что Пушкину не хватало собственных образов. Но поэт в данном случае явно апеллировал к читателю, у которого напечатанное совсем недавно стихотворение Жуковского было на слуху. Итак, греха в художественном заимствовании, как известно, нет. Важно, для чего это делается и к каким результатам приводит.
Я не согласен с Виктором Петровичем Астафьевым, выругавшим поэму Вен. Ерофеева «Москва-Петушки». Это произведение ассоциируется для меня с полотнами Босха. Как, допустим, и книги Кафки. А Босх не пугал адскими видениями, Босх показывал, куда может привести человека путь отпадения от Бога, какие страшные последствия ожидают людей, бодро вступивших на стезю греха. Иными словами, сквозь кошмарные видения художника мы прозреваем идеал, соощущая с творцом то, что принято называть духовностью.
По-моему, огромный недостаток постмодернистской литературы в том и состоит, что духовность ею как бы оказалась утраченной.
Возьмём роман Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого». В нём переданы сложные человеческие судьбы, тонкие душевные переживания. И построен он мастерски: сюжетные извивы центрального конфликта естественно переплетаются с побочными сюжетными ответвлениями, и всё вместе в конечном итоге приводит к общей развязке. Казалось бы, на фоне общего постмодернистского фокусничанья напечатано наконец живое и мощное художественное свидетельство недавнего прошлого.
Однако, даровитый человек, Улицкая не избежала, на мой взгляд, той сейчас модной игры с читателем, которая выхолащивает серьёзность авторского намерения.
Что заставило её взяться за перо?
Жена, не прощающая мужу, дочь, не прощающая родителям, жалкие судьбы всех героев романа, торжество пошлости в его конце, олицетворённой в приёмной дочери и её муже.
В «Казусе Кукоцкого» добро отступило под напором зла. И автор в связи с этим как бы разводит руками: жизнь сложна, не предсказуема и часто несправедлива.
Но такая констатация не может быть художественным итогом романа. В этом нас способен убедить эпизод из прошлого.
В 40-х годах XIX века Некрасов собрал и выпустил сборник произведений разных авторов под названием «Физиология Петербурга». Он находился под сильным влиянием идей Белинского, уверенного в то время, что именно схватывание «физиологических» подробностей, так сказать, дагерротип действительности и есть самый действенный метод реалистического осмысления жизни в искусстве.
Физиологические очерки, собранные Некрасовым, остались фактом истории литературы, но никак не живого искусства.
Скаламбурив, можно сказать, что «Физиология Петербурга» стала фактом истории о том, что относится и что не относится к искусству.