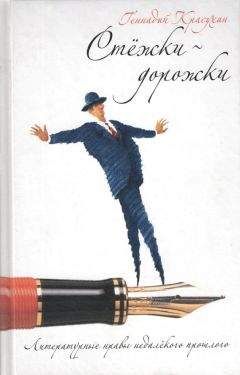По-моему, огромный недостаток постмодернистской литературы в том и состоит, что духовность ею как бы оказалась утраченной.
Возьмём роман Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого». В нём переданы сложные человеческие судьбы, тонкие душевные переживания. И построен он мастерски: сюжетные извивы центрального конфликта естественно переплетаются с побочными сюжетными ответвлениями, и всё вместе в конечном итоге приводит к общей развязке. Казалось бы, на фоне общего постмодернистского фокусничанья напечатано наконец живое и мощное художественное свидетельство недавнего прошлого.
Однако, даровитый человек, Улицкая не избежала, на мой взгляд, той сейчас модной игры с читателем, которая выхолащивает серьёзность авторского намерения.
Что заставило её взяться за перо?
Жена, не прощающая мужу, дочь, не прощающая родителям, жалкие судьбы всех героев романа, торжество пошлости в его конце, олицетворённой в приёмной дочери и её муже.
В «Казусе Кукоцкого» добро отступило под напором зла. И автор в связи с этим как бы разводит руками: жизнь сложна, не предсказуема и часто несправедлива.
Но такая констатация не может быть художественным итогом романа. В этом нас способен убедить эпизод из прошлого.
В 40-х годах XIX века Некрасов собрал и выпустил сборник произведений разных авторов под названием «Физиология Петербурга». Он находился под сильным влиянием идей Белинского, уверенного в то время, что именно схватывание «физиологических» подробностей, так сказать, дагерротип действительности и есть самый действенный метод реалистического осмысления жизни в искусстве.
Физиологические очерки, собранные Некрасовым, остались фактом истории литературы, но никак не живого искусства.
Скаламбурив, можно сказать, что «Физиология Петербурга» стала фактом истории о том, что относится и что не относится к искусству.
Эти заметки я пишу в то время, когда одному из самых моих любимых кинорежиссёров Алексею Герману исполнилось 65 лет. И телеканал «Культура» почти неделю празднует это событие, демонстрируя вечерами ленты Германа: «Двадцать дней без войны», «Проверки на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин». И наконец, фильм, о котором до этого я только много слышал, – «Хрусталёв, машину!»
На следующий день после просмотра читаю в «Известиях» сожаление о том, что этот гениальный фильм Германа абсолютно некассовый, и с сожалением не только не соглашаюсь с эпитетом «гениальный», которым одарили фильм «Хрусталёв, машину!» в газете, но с сожалением думаю о том, что при всей своей любви к режиссёру не смог бы отнести этот фильм к его удаче.
По-моему, Герман потерпел в нём оглушительную неудачу.
Страшные, леденящие душу разрозненные эпизоды, мастерски отснятые как бы в пригашенном свете. Много истерики, крика, злобы, насилия, ужаса, страха.
И что всё это связывает? Неужели только название ленты, воспроизводящее знаменитую ликующую фразу Берии, узнавшего о смерти Сталина и не только не пожелавшего остаться возле покойного, но в понятном нетерпении приказавшего шофёру подавать машину, чтобы умчаться, опережая других, к вершине власти. Но если все эпизоды фильма связаны между собой только названием, то оно – код шифра. А шифровка в искусстве – эзотерика, снобизм, сообщение, посланное избранным. Страшное время, запечатлённое в фильме в унизительных физиологических подробностях, существует как бы само по себе в автономном режиме, мучительном для зрителя, поскольку тьма не отделена от света.
О художнике, о том, для чего он со своим творчеством призван в наш мир, замечательно точно сказал Блок в знаменитой речи «О назначении поэта». Он назвал творца «сыном гармонии» и пояснил: потому он и «сын», что не только ей причастен, не только её улавливает, но вносит гармонию в мир. Отказаться от такой задачи – значит перестать быть художником или не быть им вовсе. (Снова и во избежание недоразумений подчеркну, что веду речь не о воспроизведении жизненной дисгармонии – её мы найдём ещё у Лермонтова, но об идеале, к которому, даже обливаясь кровью, стремится сердце художника.)
Пушкин поставил в заслугу поэту (себе), в частности, то, «что чувства добрые я лирой пробуждал». Он нашёл очень точное слово: не поучал, не воспитывал, а пробуждал. Ведь пробудить можно лишь то, что имеется в душе человека. Пробудить чувства добрые – значит действенно помочь человеку жить в этом сложном мире.
А творчество, оставляющее читателя, зрителя один на один с дисгармоническим, неупорядоченным миром, – не искусство в подлинном смысле этого слова. И не важно при этом, будет ли оно иметь успех на сегодняшнем рынке, важно, что в дальней перспективе оно приговорено исчезнуть. Ибо лишено идеала, который есть единственная духовная ценность, пропитывающая собою материю произведения. А сама по себе материя тленна. Наивно думать, что актуальное во все времена изречение древних: «Жизнь коротка, искусство вечно» вдруг потеряло свою актуальность в наше время…
После того, как Аристарха Андрианова перевели в обозреватели, Золотусский назначил своим заместителем Борю Кузьминского, но тот пробыл на этой должности совсем недолго. Виталий Третьяков, бывший заместитель Егора Яковлева по газете «Московские новости», возглавил новую «Независимую газету», куда и ушёл Кузьминский.
И Золотусский позвал в заместители меня. Я согласился. В конце концов, я должен был подчиняться только ему. А я ему как человеку доверял.
– Представляешь! – сказал он мне. – Кривицкий стал меня отговаривать: «Игорь Петрович, для чего вам это нужно? Красухин абсолютно неуправляем. Я всегда был против любого его продвижения, любой прибавки к окладу». «Евгений Алексеевич, – рассказывал мне Игорь, как он ответил Кривицкому, – поэтому у вас и была такая скучная литература. А такие люди, как Красухин, вынуждены были подрабатывать на стороне».
Три года я проработал его заместителем. И ещё год исполнял его обязанности. И ничуть об этом не жалею. Хотя пришлось пережить за это время многое, в том числе и очень тревожное.
* * *
Статьи Бурлацкого и его выступления на съездах народных депутатов печатались в каждом номере. Казалось, что газета превратилась в сплошной комментарий к его выступлениям.
Разумеется, речь идёт о первой тетрадке, которая, как я уже говорил, прежде была второй. Теперь в ней печатались отклики на выступления Бурлацкого на съезде, возражения на его выступления, и наоборот – письма в поддержку Бурлацкого.
Фёдор Михайлович Бурлацкий оказался воистину бичом для выпускающих номер. Его будто не интересовало, когда номер должен быть подписан к печати. Он мог приехать и в час ночи, когда всё свёртывалось, и всех заставлять отыгрывать назад. Вы только-только сообщили жене, что выходите, – и звоните снова, что задерживаетесь! Вы хотели уехать, так вот извольте остаться, потому что номер главным редактором не подписан, а когда он его подпишет, никто не знает.