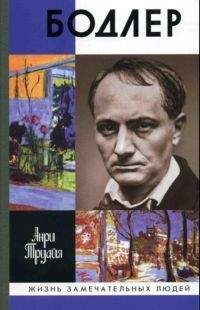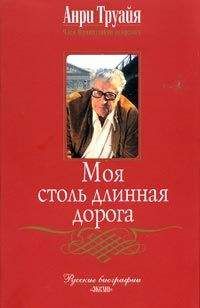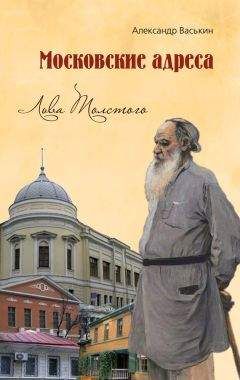В начале года над Жанной нависла угроза паралича. Ее приняли в муниципальную больницу, так называемый дом Дюбуа, расположенный в доме 200 по улице Фобур Сен-Дени. Обеспокоенный Бодлер послал Пуле-Маласси деньги, необходимые для лечения. «Даже если Вам это неприятно, рассчитываю на Вашу дружбу, — писал он. — Я не хочу, чтобы мою парализованную вышвырнули за дверь. Быть может, она и не возражала бы, но я хочу, чтобы ее держали там, пока есть хоть какая-то надежда на выздоровление». Он переживал, видя физическую деградацию этой женщины, давно переставшей вызывать в нем желание, и тщетно пытался найти ей замену на роль наперсницы, вдохновительницы и любовницы. Мари Добрен, по-прежнему влюбленная в Теодора де Банвиля, уехала с ним в Ниццу. Г-жа Сабатье разочаровала своего обожателя, пытаясь привязать его к себе. Уличные девицы его больше не волновали. Не утратил ли он вообще вкус к женщинам? Он жестоко критиковал это отродье в своих заметках «Мое обнаженное сердце»: «Женщина — это противоположность денди. Следовательно, она должна внушать отвращение. У женщины возникает чувство голода — и она хочет есть. Жажда — и она хочет пить. У нее течка — и она хочет, чтобы с ней совокуплялись. Великая заслуга! Женщина естественна, то есть омерзительна. Вот почему она всегда вульгарна, то есть является полной противоположностью денди». По существу, этот неисправимый мечтатель упрекал представительниц другого пола в том, что они самим своим нутром слишком близки к природе. Рабыни плоти в любви, они производят плоть, становясь матерями, и в мыслях своих не видят ничего за пределами плоти.
Несмотря на свои столь категоричные взгляды на женщин, Бодлер признавался, что на него произвела впечатление вызывающая красота некой Элизы Нери, женщины полусвета, о которой говорили, будто она шпионит в пользу Италии. Тогда же он весьма эмоционально реагировал на одну загадочную даму, которую в посвящении к «Искусственному раю», опубликованному весной 1860 года у Пуле-Маласси, обозначил инициалами J. G. F. «[…] эту небольшую книгу я посвящаю не покойнице, нет, женщине, которая, хотя и больна сейчас, во мне по-прежнему живет активной жизнью, а теперь обращает все свои взоры к Небесам, то есть туда, где происходят все преображения, — писал он в своего рода введении к произведению. — […] Ты увидишь на этой картине одиноко прогуливающегося мрачного человека, окруженного бесчисленным потоком людей и пребывающего сердцем своим и помыслами своими рядом с некой далекой Электрой, когда-то утиравшей ему пот со лба и освежавшей ему горячие, от жара подобные пергаменту губы. И ты угадаешь благодарность другого Ореста, чьи кошмары ты часто наблюдала, отгоняя своей легкой материнской рукой ужасные сновидения от его головы». Однако кто же такая эта Электра, «далекая» и «больная», которая склонялась над своим лишившимся сна любовником и ласками успокаивала его? Уж не Жанна ли, возвеличенная воображением поэта, не желавшего видеть ее такой, какая она есть? Разумеется, он давно уже не придерживался обета верности ей. Но весь мир женщин он делил на три части: на уличных девок, с которыми он общался, тут же их забывая, на Жанну, от которой осталось лишь воспоминание, и на светских дам, которых он посещал, надеясь, что они удовлетворятся письменными знаками почитания.
Вот почему ему пришлась так по душе проявившая к нему интерес г-жа де Калонн. Ей было уже под сорок, но ее обаяние и приятность беседы с ней заставляли забыть про ее возраст. В каждом письме к директору «Ревю контанпорен» Бодлер уделял фразу-другую его супруге: «Заметив, что г-же де Калонн нравятся романтичные повести, я позволил себе послать ей „Пима“ и „Героя нашего времени“»[56] (15 декабря 1858 года); «Соблаговолите, пожалуйста, напомнить обо мне г-же де Калонн и скажите, что я очень тронут любезными словами, сказанными ею, когда я имел удовольствие видеть ее в последний раз» (1 февраля 1859 года); «Нижайший поклон г-же де Калонн» (11 февраля 1859 года); «Я подчиняюсь г-же де Калонн. Ведь она сказала мне: „Пишите для нас побольше стихов“» (24 февраля 1859 года).
Если г-жа Калонн неизменно благоволила к Бодлеру, этого никак нельзя было сказать о ее муже. Тот жаловался, что его автор не вовремя сдает тексты рукописи о гашише и опиуме, на слишком крепкие выражения, встречающиеся в новых стихах, присылаемых из Онфлёра. Когда г-н де Калонн стал возражать против употребления слова «gouge»[57] в «Пляске смерти», Бодлер ощетинился: «Это прекрасное слово, единственное и в данном случае незаменимое, слово из старого языка, вполне применимое к пляске смерти […] Разве Смерть не является Прислугой, повсюду идущей за Великой всемирной Армией, разве она не является любовницей, чьи поцелуи действительно неотразимы? Цвет, антитеза, метафора — все на месте. Как же ваш критический вкус, всегда такой точный, не угадал моего замысла?» Сердитые замечания г-на де Калонна учащались по мере того, как писатель сдавал свои новые произведения. Бодлеру это так осточертело, что он подумывал о разрыве с «Ревю контанпорэн» и писал Пуле-Маласси: «Можете себе представить, этот дурак де Калонн выразил недовольство, прочитав стихотворение „Плаванье“? С тех пор, как он получил правительственную субсидию, он опять стал страшно придирчивым, этот наш сверхглавный редактор. И у него еще хватает наглости приставать ко мне с требованием новых стихов. Он их не получит […] Новые „Цветы зла“ написаны. И они будут взрывоопасными, как газ в мастерской стеклодува. Но что бы там ни говорила эта дама де Калонн, стихи эти пойдут не к ней». Несмотря на затронутое самолюбие, Бодлер соблюдал вежливость и уже к тому времени предупредил Калонна: «Не обижайтесь, но, видя Ваши сомнения, я позволил себе передать „Плаванье“ в „Ревю франсез“ […] Преданный Вам […] Кланяйтесь, пожалуйста, г-же де Калонн».
Между Бодлером, Калонном и Пуле-Маласси сложились довольно сложные отношения, поскольку Бодлер, связанный с Калонном оформленным должным образом договором, по которому он уже получал авансы, передал часть своих авторских прав в «Ревю контанпорен» Пуле-Маласси, которому он был должен деньги. А поскольку тот оказался на грани разорения, то стал умолять Шарля рассчитаться с ним. Но как? Призвали на помощь Калонна. Наконец вроде бы нашелся выход — векселя. Чтобы успокоить Пуле-Маласси, Бодлер заверил его, что скоро получит солидные суммы за выход в свет своего перевода «Эврики» Эдгара По в «Ревю энтернасьональ» и за постановку в императорском театре «Сирк» откровенно бульварной драмы «Маркиз из первого», переработанной из новеллы его друга Поля де Молена. Однако хотя Бодлер составил план пьесы, акт за актом, она так никогда и не увидела свет рампы. Это был еще один из тех миражей, за которые он цеплялся, чтобы не впасть в отчаяние от неудач. Вокруг него все рушилось. Журнал «Ревю энтернасьональ» еле держался на плаву. Его директор Карлос Дерод отказался продолжать после январского номера за 1860 год публикацию «Эврики», к которой читатели потеряли интерес. Отношения с «Ревю контанпорен» тоже превратились в нескончаемые ссоры и примирения, что очень изматывало Бодлера. «Имя мое и талант должны были бы уберечь меня, и, как правило, уберегали, от мелких придирок типичных главных редакторов, причем я даю честное слово, что Вы — первый, к кому я отношусь с таким уважением», — писал он с достоинством г-ну де Калонн 5 января 1860 года. А через месяц он сообщил Пуле-Маласси: «Четыре раза ссорился я с Калонном, и он дважды присылал мне письма с извинениями, но вот в пятый раз ему захотелось показать свою власть литературного руководителя. Такая жизнь мне совершенно невмоготу».