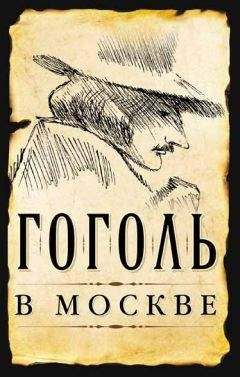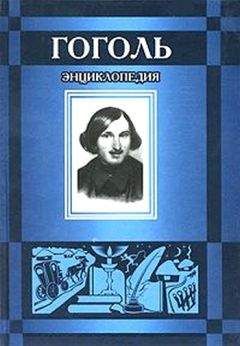Звание «Чрезвычайного Ничевока живописи» указывает на то, что изобразительное искусство все-таки доминировало в творчестве Земенкова, постепенно вытесняя из него поэзию, значительных успехов в которой у него с тех пор уже не было заметно. Но в начале 1920-х он еще выступал на поэтических вечерах в Политехническом музее и Доме печати, посещал литературные кафе «Домино» и «Стойло Пегаса», и, может быть, самое ценное, что дал ему этот период для дальнейшей деятельности, заключалось в общении, знакомствах с С. А. Есениным, В. В. Маяковским, Н. Н. Асеевым. Об этих и других поэтах, писателях, художниках многие годы спустя он будет писать уже как москвовед, выявлять их адреса, вспоминать, где встречался с ними сам, как выглядели памятные дома тогда, во времена его молодости:
«Мне неоднократно приходилось бывать у Есенина на ул. Москвина. Через 20 лет после события, уже работая над домами, я пришел сюда и оказалось, что мне легко воспроизвести отрывки бесед, их темы, даже интонации голоса, а вот в какой я подъезд входил, на какой этаж поднялся, даже в какой корпус — все это мучительно трудно было вспомнить, хотя именно эту задачу я себе ставил…»10
Рисунок Б. С. Земенкова
Эстетизм модных литературно-художественных течений был, увы, не единственным явлением, формировавшим взгляды двадцатилетнего художника:
Цоканьем цыкают цинк и рысца.
С эстрады всего лишь стекло ел,
А тут хлорэтилом льют на сердца
И строят сомкнутым строем11.
Это стихотворение осени 1919 года относится ко времени пребывания Земенкова на фронте, но, кажется, выражает и его душевное состояние последующих лет. Революционной эпохой он был поставлен в «сомкнутый строй», совершенно не был чужд большевистским идеям, а его карикатуры антиклерикального и атеистического характера не позволяют считать их автора ни набожным, ни даже сколько-нибудь верующим человеком. Оформляя своими рисунками сатирический альманах «Крысодав» (1923) он рисует врагов-буржуев крысами, а ГПУ, которое представляет как единственное и радикальное средство избавления — в образе кота-крысодава.
И пусть никто не судит человека, которому всего двадцать один год и который рад своему новому революционному государству. Просто понятнее становятся «пинки», которые потом будет раздавать «Гоголь в Москве»: М. А. Дмитриеву — за сенаторство («реакционный стихотворец»), В. А. Жуковскому и Виельгорским — за службу при дворе («содействовали развитию идейного кризиса Гоголя»), М. П. Погодину — за славянофильство12. А как еще расценить слова, что «лишь почти насильственно, эксплуатируя материальную зависимость от него, Погодину удалось вырвать у Гоголя для „Москвитянина“ отрывок повести „Рим“»13? Каковы бы ни были сложности в отношениях между славным писателем и знаменитым историком, сделавшим, кстати, Гоголю столько добра, и что бы ни писал Аксаков, или сам Погодин в своем дневнике, без социально-политического заказа в этой оценке дело не обошлось. Хочется верить, что ярлыки навешивал не Земенков, а какой-нибудь редактор «Главлита» (кажется, так называлась политическая цензура при редакциях и издательствах советских времен).
Но я не думаю, что большевистские «крестовые походы» радовали и питали душу. К середине 1920-х годов Земенков окончательно избирает путь художника, входит в общество «Бытие» и, участвуя в его выставках, пополняет своими московскими пейзажами Третьяковскую галерею. Его «интерпретацию экспрессионизма» и поиск «нового социального сюжета» одобряет критика. Но на рисунках тушью и белилами вдруг появляется «alter ego» Земенкова — ссутулившийся человечек в кепке с изможденным лицом и безжизненным взглядом. Вот он затравленно закрывает пятерней лицо, а за ним, над крышами двухэтажных домиков, плывут призраки египетских богов… «Тьма египетская».
Земенков продолжал работать в жанре городского пейзажа, а в 1930–31 годах выпустил даже несколько брошюр по прикладной графике, в которых нашла отражение его практика иллюстратора и оформителя. Тем не менее, судя по мучениям героя его рисунков, он все же не находил своего собственного, свободного и внутренне осмысленного пути. Доказательством тому — очевидный, по-моему, факт, что ему так и не удалось проявиться в чем-либо достаточно ярко, то есть так ярко, как потом он проявился на поприще историка-москвоведа, исследователя мемориальных домов. Поэтому, думаю, поиск себя в эти годы у Земенкова не прекращался. Увлекшись Чеховым, он решил писать чеховскую Москву и за консультацией обратился к такому знатоку московской старины как П. Н. Миллер:
«Я могу себя считать учеником покойного ныне председателя общества „Старая Москва“ Петра Николаевича Миллера, — вспоминал впоследствии Земенков, — Сам я по профессии художник и в те годы ни о какой исследовательской работе не думал. Привело меня на заседания общества „Старая Москва“ желание писать Москву, но писать ее не бездумно, а выявляя какие-либо памятные места, которые в ее большой истории сыграли известную и значительную роль. Однажды, после одного из заседаний (это было лет 15 назад), я сказал Петру Николаевичу, что близится одна из чеховских дат, и было бы интересно запечатлеть те дома, где он жил. Последовал вопрос: а что вам известно по этому поводу? Я ответил, что в письмах Чехов часто указывает фамилии владельцев тех домов, где он живет. „Ну, и прекрасно, — последовал ответ, — рисуйте, мы вам устроим выставку, а главное, вы у нас сделаете сообщение“. Я растерянно стал отказываться. „Включаю в календарный план, — последовал суровый ответ, — а я вам буду помогать. Выпишите домовладельцев и приходите ко мне“. Дня через два я был у него, начав с дома Клименкова на Якиманке…»14
Далее Земенков излагает свой первый поиск памятного дома, свою ошибку и полученные по этому поводу наставления маститого историка. В результате, общение с Миллером стало поворотным моментом в творческой биографии художника-москвоведа. Уже в 1941 году, перед войной, в Москве и Ленинграде с успехом проходят выставки его акварелей «Литературные Петербург и Москва». В течение пятнадцати лет (1939–54) им было создано свыше 200 графических работ (карандаш, акварель, гуашь), которые фиксировали или реконструировали облик историко-культурных памятников Москвы и Подмосковья — главным образом, мемориальных зданий. Значительную часть этих «рисунков-реставраций» составили серии, связанные с именами А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. В. Маяковского и других писателей. Работы выполнялись для Государственного Литературного музея и для Музея истории и реконструкции Москвы (с 1986 — Музей истории Москвы). В последнем (где художник входил также в ученый совет музея) собрание графики Земенкова, начавшее формироваться при его жизни, по его кончине (1963) было пополнено его вдовой, Галиной Леонидовной Владычиной, которая к тому же частью отдала, частью продала музею картотеку и другие рукописи своего покойного мужа, множество его книг и коллекцию старых открыток.