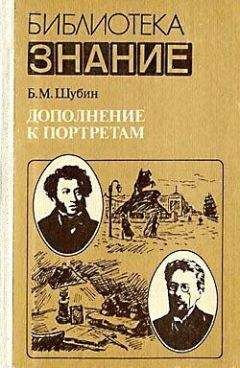Точно так же обстояло дело с простейшим медицинским инструментарием. Антон Павлович в тюремном лазарете попытался вскрыть гнойник, и ему все время подавали крайне тупые скальпели. Между тем смета, отпущенная на лазарет, в 2,5 раза превышала расходы лучшей в Московской губернии Серпуховской земской больницы.
Обстановка Александровского лазарета потрясает своим ужасом: «В бараке, где находятся больные, на одной кровати лежит каторжный из Дуэ, с перерезанным горлом; рана в полвершка длины, сухая, зияющая; слышно, как сипит воздух. Больной жалуется, что на работе его придавило обвалом и ушибло ему бок: он просился в околоток, но фельдшер не принял его, и он, не перенеся этой обиды, покусился на самоубийство, – хотел зарезаться. Повязки на шее нет, рана предоставлена себе самой. Направо от этого больного, на расстоянии 3–4 аршина от него, – китаец с гангреной, налево – каторжный с рожей… У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то подозрительный на вид, точно по нему ходили».
В эпоху таких выдающихся врачей, как Г. А. Захарьин и С. П. Боткин, лечение в тюремном лазарете превращается в профанацию медицины: врач должен ставить диагноз, не прикоснувшись к больному, на расстоянии, так как между ним и пациентом – преграда из деревянной решетки и надзиратели с револьверами.
Во что можно превратить самую гуманную на земле профессию, писатель показывает в наблюдаемой им сцене освидетельствования перед наказанием:
«…Доктор, молодой немец, приказал… раздеться и выслушал сердце для того, чтобы определить, сколько ударов может вынести этот арестант. Он решает этот вопрос в одну минуту и затем с деловым видом садится писать акт осмотра…»
Больничные порядки на острове отстали от цивилизации, по мнению А. П. Чехова, на два века, и он не удивился бы, если бы увидел, что умалишенных здесь сжигают на кострах по указанию тюремных врачей.
К обвинительному заключению русской каторге, собранному писателем и журналистом, добавились материалы, добытые Чеховым-врачом.
Над «Сахалином» Антон Павлович работал долго. Он планировал отдать этой книге «годика три» и считал, что хотя и не является специалистом, но «напишет кое-что дельное». Он очень серьезно смотрел на эту свою работу и мечтал, чтобы книга, пережив автора, стала «литературным источником и пособием для всех интересующихся тюрьмоведением».
«…Мой „Сахалин“ – труд академический… – напишет он А. С. Суворину после завершения работы над книгой. – Медицина не может теперь упрекать меня в измене: я отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли педантством. И я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей жесткий арестантский халат…»
Книге этой он придавал серьезное значение и однажды в присутствии Михаила Павловича высказал предположение, что за нее ему могут присудить степень доктора медицины honoris causa.
Если подходить к этой его работе со строгих позиций современного ВАКа, то она, как принято формулировать в таких случаях, удовлетворяет всем самым высоким требованиям, предъявляемым к диссертациям, а ее автор, совершивший гражданский и научный подвиг, несомненно, заслуживает искомой степени.
Но в этом ему было отказано: декан медицинского факультета, к которому обратился однокашник и друг Антона Павловича профессор Г. И. Россолимо, не пожелал даже разговаривать с ним на эту тему. Дело, конечно, не в том, что патологоанатом профессор И. Ф. Клейн не оценил по достоинству научного значения работы А. П. Чехова. И не в том, что на ученую степень претендовал автор «легкомысленных» рассказов, вчерашний Антоша Чехонте, как предположительно объяснял причину отказа К. И. Чуковский.
Присуждение ученой степени автору «Острова Сахалина» означало бы официальное признание столь крамольной книги, а вместе с тем – существования тех чудовищных явлений, которые в ней описаны.
Однако книга Чехова выполнила ту задачу, которую ставил перед собой автор: она потрясла читающую публику, возбудив интерес общества к «острову изгнания» не только в России, но и за рубежом.
А. П. Чехов с таксой Хиной на крыльце дома в Мелихове
По примеру Антона Павловича на Сахалин устремились прогрессивные журналисты. Известный репортер и фельетонист В. М. Дорошевич рассказывал, что его долго не допускали на остров:
«– Тут, батюшка, Чехова пустили – так потом каялись. Пошли из Петербурга запросы… Как у вас? Что? Почему? Отчего такие порядки? Потом себя кляли, что показали!»
Под влиянием общественного мнения царское правительство вынуждено было направить на Сахалин своих ревизоров и произвести некоторые реформы в положении каторжных и ссыльных.
С. Залыгин в эссе о Чехове утверждает, что тема острова Сахалин сказалась всего на двух рассказах Антона Павловича: «Гусев» и «Убийство». Более того, С. Залыгин пишет: «…он (А. П. Чехов. – Б. Ш.) отлучает остров Сахалин от своего искусства».
С мнением уважаемого нашего писателя согласиться трудно: сахалинские впечатления, несомненно, отразились на чеховском творчестве последующих лет. Выражаясь словами Антона Павловича, можно сказать, что все оно «просахалинено». Особенно это определение справедливо для одного из самых замечательных произведений А. П. Чехова – повести «Палата № 6».
Гнетущая атмосфера рагинской больницы почти дословно списана с больничного околотка села Корсаковки: «В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра…»
Все в этой повести вызывает тюремные ассоциации: и унылый вид больничного флигеля, и окружающий его забор, утыканный гвоздями с остриями, обращенными кверху, и бесправные больные, осужденные на бессрочную каторгу, и красноносый охранник Никита, который убежден, что больных «для порядка» надо бить. Даже возникновение заболевания у одного из главных героев «Палаты № 6» является как бы логическим завершением судьбы ничем не защищенной личности в условиях полицейско-тюремного режима.
Когда Иван Дмитрии Громов встречал на улицах арестантов, они обычно возбуждали в нем чувство сострадания. Но однажды «ему вдруг… показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму… Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму… А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного… Ищи потом справедливости… Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного мстительного чувства?…»