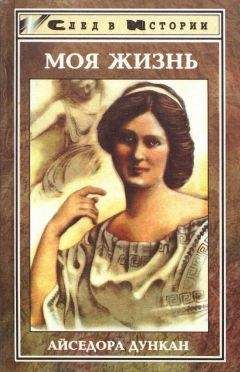– Да это у меня тут «оси координат» (это были три растопыренных пальца) – я так все тогда яснее соображаю…
Как деталь: он бывал у нас дома, я у него работал по механике – но до самого конца он путал мою фамилию (казалось, можно было бы запомнить – фамилия факультетского декана), он помнил только, что фамилия «профессорская», и я у него бывал то Тимирязевым, то Горожанкиным, то Бугаевым.
В ином роде чудаком был Ник. Вас. Бугаев, отец Андрея Белого, который в своих воспоминаниях [111] очень красочно описал нашу факультетскую среду, но папашу своего сильно подгримировал и от его чудачеств ничего не оставил. Бугаев прежде всего был замечателен тем, что, уже давно будучи седым, он каждое первое число месяца красил какой-то ваксой волосы в некий неправдоподобный, сапожный цвет, который к концу месяца обращался во что-то сложное: тут было и бурое, и желтое, и даже какие-то фиолетовые прослойки. Все это исчезало первого числа, и студенты нередко его встречали в таком «обновленном» виде громкими аплодисментами, которые он сам, впрочем, принимал всегда как знак уважения к своей личности, а не как высказывание восторга по случаю периодического омоложения, во время которого он напоминал какого-то оперного разбойника в наскоро сделанном гриме.
В нем бесспорно были элементы некоей маниакальности: часто высказывал он странные мысли, которые поражали не столько глубиной, сколько неожиданностью…
Раз я с ним ехал на извозчике по Москве: вдруг он неожиданно толкает извозчика в спину и говорит ему:
– Ты ведь мужик?
– Так точно, барин.
– А я вот и барин, да еще и генерал, действительный статский. А ты ко мне спиной сидишь. Так вот ты повернись ко мне мордой.
– А лошадка-то как побежит?
– Пусть как хочет бежит – а ты должен ко мне мордой оборотиться.
Извозчик в недоумении и даже страхе. По правде сказать, и я был в недоумении. Я решил, что это, по всей вероятности, был опыт «остроумия» – опыт не вполне удавшийся, как часто бывает с университетскими опытами.
Он был очень хорошим шахматистом и рассеян до анекдотичности, что, как известно, часто совмещается. Во время университетских «зачетов» он постоянно бывал объектом специального спорта, сущность которого заключалась в том, что один из студентов (обычно с хорошими познаниями) сдавал у Бугаева зачеты за своих коллег, малоопытных в математике.
Риск и пикантность заключались в том, что этот студент подряд несколько раз подходил к сидящему за столом Бугаеву, который вызывал студентов по фамилиям, и бедный профессор не замечал, что к нему подходит все один и тот же, который в довершение всего лично был знаком с Бугаевым.
Лекции его не были интересны ни с научной, ни с педагогической стороны. Он их отчитывал, как многие профессора старой формации, как неприятную повинность – в них было даже немало математических неточностей. Зато они были обильно пересыпаны анекдотами, которые математически точно повторялись из года в год.
Над этими анекдотами он хохотал преимущественно сам. Никогда он не пропускал лекций, никогда не опаздывал – зато с первым звуком звонка он, не окончив ни фразы, ни часто слова, кубарем скатывался с кафедры и устремлялся в «профессорскую», где был в безопасности от студенческих вопросов и приставаний. Общения со студентами он не признавал.
Иного типа был Лутинин, красочная фигура на университетском горизонте. Первое о нем сведение я получил, прочитав в «Московских ведомостях» в отделе казенных публикаций объявление о том, что «отставной гвардии поручик, доктор химии «гонорис кауза» Лозаннского и Гейдельбергского университетов» потерял какие-то свои документы. Я заинтересовался странной комбинацией «отставного гвардии поручика» с «почетным доктором» двух лучших университетов Европы в одном лице. Потом выяснилось, что это еще не все «совмещения противоположностей» в нем.
Один из богатейших людей России, владетель миллионов десятин (ему принадлежала большая половина Ветлужского уезда), так что общая площадь его земель превышала площадь Черногории, – он был сторонником «Черного передела» помещичьих земель в пользу крестьян и за участие в нем был «гоним» правительством и сделался политическим эмигрантом [112].
Одно время он был другом Герцена и делал предложение его дочери, Нат. Алекс.
Герцен – но получил отказ, несмотря на симпатии к нему Герцена. Въезд в Россию ему был воспрещен, и запрет этот снят только приблизительно за год до моего поступления в университет. Тогда он был уже пожилым человеком. Наружность у него была не профессорская и не «доктора гонорис кауза», а скорее именно «отставного гвардии поручика», с густыми висячими усами и многократным подбородком. Он был весьма некрасив, так что я вполне посочувствовал Нат. Алекс. Герцен в ее нежелании выходить за него замуж. Первое от него зрительное впечатление было – «чучело».
Так его и прозвали в факультете, когда он появился на московском горизонте. Но на самом деле это был человек очень морально чистый и беззаветно преданный своей науке, один из последних могикан «шестидесятников» с их непоколебимой верой в науку и полным «тоталитарным» атеизмом, с преданностью идее романтической революции и лозунгу «земля – на ней трудящимся». Однако, насколько мне известно, из принадлежащих ему трех с половиной миллионов десятин он до своей смерти крестьянам не дал ни одной [113].
Его научные заслуги пред его наукой (термохимией) были действительно велики, хотя протекали исключительно в «измерительной» области. Он был учеником знаменитого Вертело и женился на его дочке. Говоря в своих лекциях о точнейших термохимических измерениях, Вертело не раз упоминал о том, что измерения эти можно было бы и еще уточнить, но для этого надо построить измерительные приборы из чистого золота или платины, «чего, – прибавлял он, – никто сделать не может».
А вот Лугинин взял да и сделал. Его лаборатории (в Швейцарии и в Москве) были образцом «научной роскоши». Главные калориметры были сделаны из чистой платины, а лабораторный стол был покрыт листом платины во всю ширину. Все это он завещал Московскому университету.
Широкая русская натура сказывалась и в его образе жизни. Даже в ту эпоху (рубеж века) его барственность уже была анахронизмом, особенно в университетской среде.
Приезжая в Москву, он нанимал огромный трехэтажный дом Шереметева – на углу Воздвиженки и Шереметевского переулка и жил там один, окруженный штатом прислуги, в тридцати комнатах, выезжая в университет в прокатном «фаэтоне» парой – городской собственностью он не желал обзаводиться.
Раньше чем перейти к самому забавному из чудаков-профессоров – Каблукову, упомяну вкратце об историке Церкви проф. Лебедеве. Это был не «мой» профессор – я был на другом факультете, – но мы подвизались в одном здании. Этот огромный мужчина – настоящий «соборный протодиакон» – читал в маленькой аудитории, называвшейся библиотекой. Читал он громовым голосом по тетрадке, держа ее перед собой и ею заслоняясь от студентов. Слушателей у него было очень мало – два, три; студенты-филологи установили очередь, кому быть «дежурными» на лекции. Однажды я, придя в университет, заметил странное явление: у стеклянной двери библиотеки стояли студенты и с хохотом смотрели чрез окно в аудиторию. Оказалось, что Лебедев начал читать свою лекцию, как всегда по тетрадке; было два слушателя, сначала улизнул один, потом другой, последний, воспользовавшись тем, что профессор из-за своей тетрадки не видит его, тоже ухитрился уйти незамеченным. А Лебедев все читал в пустой комнате, тем же громовым голосом – и на эту странную лекцию одинокого профессора смотрели через стеклянную дверь другие студенты, со смехом, ожидая, когда, наконец, он заметит свою покинутость… Я до сих пор не знаю – было ли это рекордом рассеянности или же это было «принципиальное выполнение профессорского долга» вне зависимости от количества слушателей. И то и другое объяснение позволяет мне зачислить Лебедева тоже в группу чудаков.