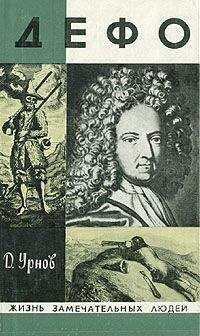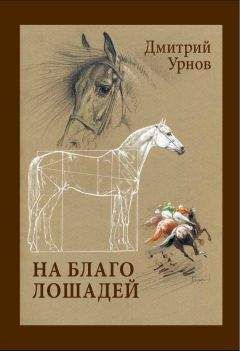Рассказывается о вещах самых невероятных через обыкновенные подробности. «Ночь я провел на дереве, опасаясь диких зверей. Все же спал я крепко, хотя всю ночь лил дождь». Едва ли сам Дефо ведал, каково это бояться диких зверей и как спят на дереве, но что значит попасть под ливень, известно каждому. Робинзон, однако, не проснулся, хотя лил дождь, к тому же спал он на суку, да еще опасался быть съеденным… Так получается в книге крепкий сон, и все остальное получается как бы «само собой».
Очутившись на острове, Робинзон всего-навсего копает, пилит, строит, шьет, ходит, ест, ложится спать, просыпается утром, а мы не отрываясь следим за простыми этими действиями Робинзона. Нам вдруг делается интересно, как это человек надевает шляпу на голову или кладет в рот кусок хлеба. Сооружение мебели, если можно сказать тут «сооружение», описывается подробно, поделка стула занимает страницу, а охота на льва упомянута между прочим. И это-то и есть обещанные «странные и удивительные приключения»?! Действительно, выходит странно и необычно после всевозможных «приключений» и «путешествий»!
Критики сразу же разглядели, что достоверность и дотошность «Робинзона Крузо» – фикция.
Чарльз Гилдон, поначалу друг, а затем враг Дефо, со злорадным торжеством отметил: Робинзон рассказывает по своему обыкновению со всей основательностью, как он уже на острове увидел в море затонувший корабль, решил побывать на нем, совершенно разделся и пустился вплавь, а на корабле сухарями набил карманы. Почему такие погрешности не нарушают правдоподобия?
Свифт, прекрасно понимая, как это делается, взялся повествовать с той же «правдивостью», доводя ее на глазах у читателя до невероятия, до пародии. Однако результат вышел неожиданным для Свифта: в Гулливера поверили точно так же, как верили в Робинзона! Под пером Свифта тот же повествовательный способ стал действовать сам собой, совершилось то же самое чудо, создавалось то же самое искусство. Все, на что оказался способен Свифт, так это не разоблачить Робинзона, а создать равного ему Гулливера.
Дефо пользовался теми самыми рецептами убеждения, над которыми Шекспир в свое время посмеялся. В шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь» была выведена прямо на сцену публика будущего, ватага ремесленников – представители среды, которая разрастется, упрочится и со вкусами которой надо будет считаться создателю «Робинзона». У Шекспира эти люди сами решили стать актерами, и они хотят «показать все по правде». Однако вместо правды получается у них нелепость, ибо разницы между жизнью и сценой они не чувствуют и не владеют основным выразительным средством шекспировского театра – картинным словом. Желая «устроить луну», вешают они фонарь, а между тем, чтобы получилась на сцене луна, надо, по Шекспиру, сказать: «Смотри, как лунный свет уснул на мраморных ступенях…» Одним словом, эти ремесленники, вторгшись на сцену, в сферу искусства, не владеют искусством, да они его и не признают! Поэтому, когда Дефо будет писать для подобной публики – а в отличие от Шекспира будет он писать в основном для такой публики (Шекспира смотрели многие, а читали совсем немногие), – он предложит им искусство как бы безыскусное. Дефо все устроит, только не на уровне любительского простодушия.
Нет, не Дефо первым решил писать «просто». Едва ли не каждый прозаик его поры говорил о том, что стремится «представить людей такими, каковы они есть».
Но именно Дефо был первым состоятельным, то есть последовательным до конца, создателем простоты. Он осознал, что «простота» – это такой же предмет изображения, как и любой другой, как черта лица или характера. Разве что наиболее сложный для изображения предмет.
Когда Дефо посмотрел шекспировскую «Бурю», то, кроме ситуации – остров и мудрец на острове, отметил еще и ту сцену, где духи, аукаясь и откликаясь, заводят подгулявших моряков в чащу леса. На этом Дефо, как «дух», построил свои отношения с читателями: «аукаясь», показывая разные правдоподобные подробности, ведет он за собой нас через всю книгу… И все так просто.
После «Робинзона Крузо» литература, английская и мировая, продолжала свое движение вместе со временем, развивалась, открывала новые средства повествования, изображения, анализа, а потом вдруг вспоминала Дефо и возвращалась к нему, как бы сверяясь с нормой. Так, на рубеже прошлого и нынешнего веков прозаики, изощрившиеся в приемах до предела и, казалось бы, далеко ушедшие от него, именно у Дефо нашли много «современного». Простой и ясный слог, который сам Дефо называл «домашним», умение смотреть на «современность» исторически, трезво и проницательно, способность показать «современного человека» частицей истории – такова «норма Дефо».
СЕРЬЕЗНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ И НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
– Ха-ха-ха!
– Охо-хо-хо!
– Ну, штурман, потешил!
Кроме табачного дыма, кают-компания «Веймута» наполнилась еще и хохотом. Долго не могли успокоиться «морские волки». Наконец сам капитан сквозь слезы из себя выдавил:
– А ну валяй, рассказывай еще раз! Несколько голосов сразу стали требовать:
– Про козу давай!
Но рассказывать уже больше и не нужно было. Одного слова «коза» оказалось достаточно для того, чтобы капитана скрючило от нового приступа смеха. Второй штурман так зашелся, что едва не проглотил дымящейся трубки. А шкипер встал на четвереньки и заблеял: «Бе-е-е!» Веселью не было границ.
– Да, – проговорил капитан в тишине и задумчивости, какая бывает после шума и хохота, – уж это, я понимаю, приключения! А по книге выходит, что ты все больше священное писание читал.
Еще похохотали.
– Нет, – вставил свое слово капитан, – наверное, ты ему сам все не по правде рассказал.
– Клянусь честью моряка, говорил все как есть!
– Стало быть, он забыл или напутал что-нибудь…
– Так ведь у него же мои бумаги были.
– Какие еще бумаги?
– Писанные и переданные ему вот этой самой рукой! – отвечал первый штурман, вытянув вперед свою руку, на которой опытный взгляд без труда различил бы и следы цепей, и царапины, нанесенные то ли в труде, то ли в драке.
– Брешешь!
– Слово моряка! Спросите госпожу Дамарис Даниель из Бристоля, дело было у нее на глазах, в ее доме, где я тогда квартировал.
Если бы в ту минуту «Веймут», стоявший на Плимутском рейде, взял курс на Бристоль и кому-нибудь из команды вздумалось проверить слова первого штурмана, то, безусловно, госпожа Дамарис оказалась бы налицо. Да, мореход Александр Селькирк останавливался у нее… дай бог память… лет с десяток тому назад. Грубоватый господин, ну, моряк как моряк, зато денег у него тогда было хоть отбавляй. Платил за квартиру исправно. Да, беседовал он с каким-то сочинителем (имени не припомню) и рассказал ему свою историю. Все верно, только надо учесть, что узнала все это госпожа Дамарис от того же Селькирка. Нет, сама она видеть ничего не видела. Но он ей так сказывал. (Попали эти «факты» даже в Британскую энциклопедию и приводились в ней по меньшей мере до издания шестнадцатого, до наших дней.)