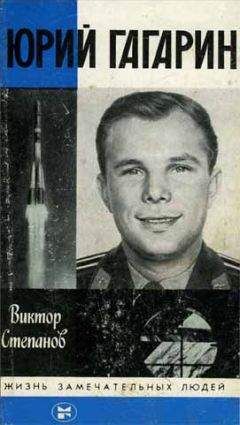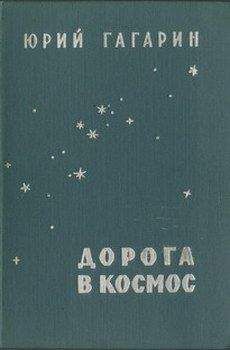Разумеется, все в конце концов объяснимо. Но как быть с признанием Джошуа Слока, который в одиночку совершил кругосветное плавание на небольшой яхте «Спрей»? В морях и океанах он пробыл более двух лет, пройдя под парусом 46 тысяч миль. Не правда ли, отважный, мужественный человек! Но однажды, плохо себя почувствовав, он привязал штурвал, а сам лег в каюте. «Когда очнулся, — вспоминал Слок, — сразу понял, что «Спрей» плывет в бушующем море. Выглянув наружу, я, к моему изумлению, обнаружил у штурвала высокого человека. Он перебирал ручки штурвального колеса, зажимая их сильными, словно тиски, руками. Можно себе представить, каково было мое удивление! Одет он был как иностранный моряк, широкая красная шапка свисала петушиным гребнем над левым ухом, а лицо было обрамлено густыми черными бакенбардами. В любой части земного шара его приняли бы за пирата. Рассматривал его грозный облик, я позабыл о шторме и думал о том лишь, собирается ли чужеземец перерезать мне горло; он, кажется, угадал мои мысли.
«Синьор, — сказал он, приподнимая шапку. — Я не собираюсь причинить вам зло». Едва заметная улыбка заиграла на его лице, которое сразу стало более приветливым. «Я вольный моряк из экипажа Колумба и ни в чем не грешен, кроме контрабанды. Я рулевой с «Пинты» и пришел помочь вам… Ложитесь, синьор капитан, а я буду править вашим судном всю ночь…»
Я думал, каким дьяволом надо быть, чтобы плавать под всеми парусами, а он, словно угадав мои мысли, воскликнул: «Вон там, впереди, идет «Пинта», и мы должны ее нагнать! Надо идти полным ходом, самым полным ходом!»
Да, ассоциативно возникшие представления в условиях изоляции достигают иногда почти вещной убедительности. И люди обычно понимают, что все это плоды воображения. Много позже Юрий узнал, что подобные представления называют эйдетическими. Обычно они свойственны юному возрасту, но могут возникать и у взрослых. Вспомним хотя бы, как А. Н. Толстой говорил о своих литературных героях: «Я физически видел их». Другой русский писатель, И. А. Гончаров, признавался: «Лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах; я слышу отрывки их разговоров, и мне часто казалось, прости господи, что я это не выдумываю, а что это носится в воздухе около меня и мне только надо смотреть и вдумываться».
…Итак, Юрий вошел в комнату, по которой можно было сделать не больше трех шагов, сел в кресло, осмотрелся: два ящика на полу — камеры кондиционирования, у него будет своя атмосфера, небольшой стол с микрофоном, вверху часы, единственный источник звуков, который не удалось заглушить. На столе кнопки, лампочки, провода датчиков. Слева на стене — так называемая черно-красная таблица Шульца. В ней сорок девять квадратов: двадцать пять с черными цифрами и двадцать четыре с красными. Цифры распределены беспорядочно. Задача: показывая указкой, складывать цифры с таким расчетом, чтобы их сумма равнялась двадцати пяти, при этом черные надо называть в возрастающем порядке, а красные — в убывающем. И все это при полной тишине или звуковых, или световых помехах. Ту же самую таблицу может читать вслух другой человек, голос которого записан на пленку, но не в такт или в том темпе. Много всего уготовано, чтобы сбить испытуемого с толку.
Юрий до мельчайших подробностей вспомнил, что рассказывал о своих ощущениях Валерий Быковский, первый попавший в сурдокамеру и просидевший там так долго, что вышел оттуда с кудрявой черной бородой.
— Главное — не теряться, — говорил Валерий. — Придумай что-нибудь такое, чтобы ты был не один, — и смеялся дробно, тихо, — иногда бывает полезно пообщаться с самим собой…
Да, это знакомо еще по курсантским временам, когда стоя на посту ночью возле какого-нибудь вещевого склада, скрадывал часы одиночества последовательным, цепочка за цепочку цеплявшимся воображением. Например, о том, как пошли в школу в Клушине, а что было потом? Ах да, самолеты на луговине, летчики, сияющие на их гимнастерках ордена, пожар, обугленный глобус, коптюшка в землянке, вкус теплой от дыма лепешки. Он как бы вытягивал пережитое в Клушине, втискивал в два постовых часа и не успевал опомниться — словно прошли какие-то три-четыре минуты, как, мигая фонариком, шла смена. «Стой, кто идет?» — «Разводящий!» Из темноты по всем правилам устава высвечивалось фонарем лицо однокашника. Он подходил, ставил другого курсанта и уводил Юрия. Сколько на тех постах было вновь пережитого? Это уже вошло в привычку — наполнять время, особенно тягостное, ожидательное, воспоминаниями.
«Оставаясь в полном одиночестве, — писал Юрий, — человек обычно думает о прошлом, ворошит свою жизнь. А я думал о будущем, о том, что мне предстоит в полете, если мне его доверят. С детства я был наделен воображением и, сидя в этой отделенной от всего на свете камере, представлял себе, что нахожусь в летящем космическом корабле. Я закрывал глаза и в полной темноте видел, как подо мной проносятся материки и океаны, как сменяется день и ночь и где-то далеко внизу светится золотая россыпь огней ночных городов. И хотя я никогда не был за границей, в своем воображении пролетал над Лондоном, Римом, Парижем, над родным Гжатском… Все это помогало переносить тяготы одиночества».
И еще ему, конечно, помогала самодисциплина, привычка устанавливать для самого себя жесткий распорядок. Правда, время могли изменить перестановкой часов, сдвинуть стрелки с ночи на полдень, с утра на сумерки. Но у Юрия было сильное ощущение времени. Не деревенский ли петушок пробуждал его в сурдокамере, ведь там, в Клушине, выгоняли коров в стадо не по часам, а по рожку пастуха.
В 8.00 — подъем, зарядка, в 8.40 — завтрак, как жаль, что не из поджаристых беляшей, приготовляемых Валей, а в виде «зубной пасты», только разного вкуса. Из одной вроде пюре картофеля, из другой — шоколад, из третьей — подобие черносмородинового киселя. Количество тюбиков уменьшается, когда они кончатся — Юрия, видимо, выпустят на свободу. Но пока их столько, что хватило бы на продажу в гастрономе.
Теперь надо на столе нажать все три кнопки — белую, красную, синюю.
— Земля, я космонавт, передаю сообщения. Температура в камере 27 градусов. Давление обычное. На первом влагомере 74 процента, на втором — 61. Самочувствие нормальное. Все идет хорошо.
Он знает, его видят, а он — никого.
— Возьмите указку, начнем работать с таблицей.
— Есть начать работать с таблицей! Двадцать четыре — один, двадцать три — два, двадцать два — три, двадцать один — четыре, двадцать, — Юрий немного замешкался. — Ах вот она, проклятая пятерка, — девятнадцать — шесть, восемнадцать — семь. — И опять пауза. — Семнадцать — восемь, шестнадцать. — Он никак не мог отыскать девятку, не зная, что на графике линия самописца прыгнула резко в сторону — самый большой временной интервал. Пятнадцать — десять, четырнадцать — одиннадцать. И вдруг грянул марш Дунаевского. Почему — тринадцать — двенадцать, двенадцать — тринадцать получились как бы слитными, сразу выявились перед глазами? Значит что, помогла музыка? И дальше опять все пошло равномерно в такт легким шагам Утесова, идущего с кнутом на плече: «Шагай вперед, комсомольское племя, расти и пой, чтоб улыбки цвели, мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли».