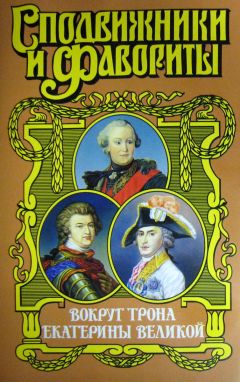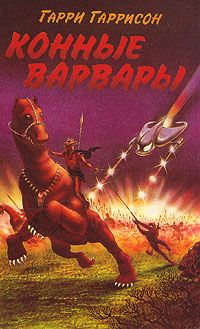Четыре года оставалась Дашкова в глухом захолустье.
В 1801 году на престол взошёл Александр Первый, и он вспомнил о Княгине. Она получила приглашение жить во дворце, ей даже отвели там апартаменты.
Но она и сама скоро поняла, что становится смешной со своими старомодными платьями и манерами, и что за её спиной раздаются смешки и остроты. Она быстро осознала, что теперь уже приходится не ко двору молодого красивого императора, и уехала в своё Троицкое, которое со временем сделала игрушкой. Она сама строила мосты и дороги, управляя своими крепостными, рыла пруды, а её пшеница была много лучше, чем у соседей...
Современники не смогли оценить её. Свидетельство тому — замечание одного из знатных иностранцев, описавших жизнь при русском дворе:
«Княгиня уже с давних пор сделалась несносна по своему дурному характеру и заслужила всеобщую нелюбовь. Знаменитая героиня 1762 года хвалилась тем, что она подарила трон Екатерине и в то же время со всех знакомых офицеров и адъютантов собирала дань галунами или аксельбантами. Любимым её занятием было отделять шёлк от золота и серебра, которые она потом продавала. Таким образом, те, кто хотел заслужить расположение княгини, должен был прежде всего отослать ей свои старые тряпки с золотым и серебряным шитьём.
Зимой она не приказывала топить залы заседания…
Академии и, однако, требовала, чтобы члены Академии аккуратно посещали заседания...
Очень оригинально было видеть эту женщину одну посреди бородатого духовенства и русских профессоров, которые сидели подле неё с выражением глубокого почтения, хотя в то же время сильно дрожали от холода. Её обхождение с членами Академии было гордо и даже грубо: с учёными она обращалась как с рабами или крепостными...»
Один из многих иностранных писателей заключает это обвинение Дашковой:
«Окончательно смешною сделал княгиню процесс с Александром Нарышкиным, который имел поместье рядом с её землями. Однажды его свиньи поели капусту на полях Дашковой, и та велела перебить животных. Когда Нарышкин после того встретил княгиню при дворе, то громко сказал:
— Посмотрите, как с неё течёт кровь моих свиней!»
И русские современники не больно-то жаловали княгиню. Даже Державин отзывался о ней как о человеке, склонном к «велеречию и тщеславию», «хвастовству», «своекорыстным расчётам», «без которых она ничего и ни для кого не делала». Это Державин обвинил Дашкову в том, что она без всяких причин не любила известного механика-самоучку Кулибина и всё это «по вспыльчивому её или, лучше сказать, сумасшедшему нраву»...
В Троицком княгиня Дашкова написала свои знаменитые «Записки» под давлением и влиянием сестёр Вильмот, двоюродных сестёр знаменитой леди Гамильтон, которую она чрезвычайно любила.
Такова была эта знаменитая женщина. Мелочи в обиходе, наряды и драгоценности не интересовали её, она вся была в плену литературных ассоциаций и служила образцом старого, восемнадцатого века.
Она умерла в январе 1810 года, забытая всеми, кому она помогала и кого обласкала своими услугами.
оглядеть на диво дивное сбегались крестьяне из сел и деревень, находившихся поблизости от накатанного тракта из Петербурга в Москву. Обозы с провизией, лакеями, поварами и поварятами прошли тут ещё вчера днём, но смотреть было особенно не на что — обыкновенные крестьянские телеги с запряжёнными в них сивыми каурками бойко катили по тракту, вздымая пыль, оседавшую на проклюнувшейся зелёной траве.
Скидывая шапки на бегу, плюхались крестьяне коленями в жидкую грязь у обочины, утыкались лбами в мягкую податливую землю и исподлобья следили за этим необыкновенным зрелищем.
Поглядеть действительно было на что.
Двенадцать пар блестящих от сытости и ухода вороных коней стремглав несли длинную огромную карету. Белые султаны из пушистых страусовых перьев качались над головами двух передних жеребцов. Такие же султаны, но поменьше, красовались над головами всех остальных лошадей. Двое берейторов[28], сидевших на передних конях, направляли ход этого огромного шествования. Сверкали позументы на их ливрейных одеждах, а ездовые, расположившиеся на высоком кучерском месте, блистали шитыми золотом широчайшими кафтанами.
Высокие, едва не в половину высоты кареты, лёгкие колеса, окрашенные в золотой и чёрный цвет, мягко катили длинную карету, покачивающуюся на ремённых рессорах. Сверкало золото императорских вензелей на дверках кареты, сияли прозрачные стеклянные окошки, задёрнутые занавесками. На запятках, вытянувшись во весь рост, стояли два рослых грума[29], залитые золотом ливрей.
Сбоку кареты гарцевали на серых в яблоках лошадях суровые гвардейцы, разряженные в роскошные мундиры.
Замыкал поезд отряд конногвардейцев.
Словом, было на что посмотреть!
Карета стремительно пронеслась, и поднявшие лбы крестьяне узрели только столб пыли, закрывший и дорогу, и удивительное видение.
Каретных дел мастера Екатерины хорошо знали своё дело. В каретных сараях дворцов громоздились самые разные транспортные средства: маленькие изящные прогулочные ландо, военные императорские возки, обитые изнутри малиновой камкой, а снаружи покрытые грубой рогожей. Пузатые тарантасы горбатились рядом с целыми поездами, в которых умещались и гостиные с ломберными столиками для игры в карты, и кабинеты с приземистыми письменными столами. В стены кабинетов были впаяны огромные куски стёкол, и здесь можно было работать даже днём, а уж вечером зажигались свечи в больших просторных шандалах.
Были императорские поезда и поменьше. Как раз такой поезд и спешил из Петербурга в Москву по уже накатанному и пыльному тракту, к Троице-Сергиевой лавре на богомолье.
В полутёмном нутре кареты на мягком диване внушительных размеров виднелась грузная фигура Григория Потёмкина. Генеральский мундир его был расстегнут, большая голова в крупных завитках иссиня-чёрных волос покоилась на кожаной подушке. Единственный глаз был прикрыт веком, а широкая сильная ладонь подпирала щёку с той стороны, где на вытекшем глазу синела врачебная повязка. Екатерина сидела на противоположном диване, пристроив на коленях книжку, и молча смотрела на Григория.
Императрица вовсе не собиралась ехать на богомолье. Она ещё не совсем оправилась после родов, девочка выдалась крупная и порвала ей многие связки внутри. Но придворная акушерка, каждое утро обследовавшая императрицу, сказала, что теперь уже нечего опасаться кровотечения и можно отправляться в любой путь. Где-то в глубине души Екатерина знала, что и придворную акушерку очаровал Григорий — небось многие червонцы из его стола перешли в её карман. Ну да Бог с ней. Екатерина чувствовала себя превосходно, и даже покачивание кареты и присутствие Григория не сдерживали её руку, скользящую по бумаге. Она всегда умудрялась работать в самых неподходящих условиях. Вот и теперь, положив книжку на колени и пристроив на ней листок бумаги, она писала своему неизменному корреспонденту в Германии Гримму. Изредка она отрывалась от бумаги и взглядывала на тяжёлую длинную голову Григория.