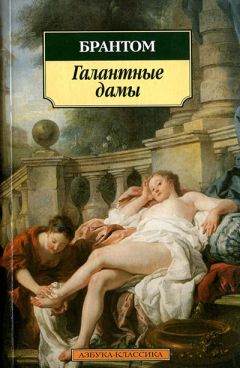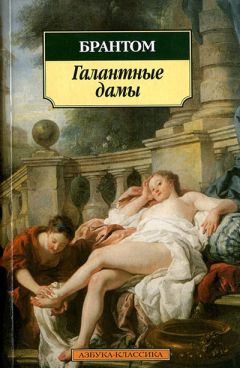Не так давно в Гиени случилось следующее происшествие: одна почтенная замужняя дама из родовитой семьи надзирала за своими детьми во время занятий их с воспитателем, как вдруг этот последний, охваченный то ли внезапным безумием, то ли нахлынувшей на него любовной страстью, схватил с постели шпагу ее мужа и одним ударом рассек несчастной женщине ягодицы и женское место, отчего она едва не отдала Богу душу, не случись поблизости опытного хирурга. После этого нападения пораненный орган выглядел так, что дама с полным основанием могла бы утверждать, будто он побывал в двух жестоких войнах и подвергся двум яростным атакам. Полагаю, что вид его доставлял мало приятности, коли он был весь порублен, а крылья изодраны в лоскуты: крыльями называю я внешние губы — по примеру греков, которые величали их himenea; римляне также звали их alae; французы же употребляют, кроме слова «губы», еще и другие — «дольки», «створки» и прочее; мне же более всего нравится латинское слово alae — «крылья», ибо ни одна птица, ни хищная, ни домашняя, не сравнится проворством своим с тем крылатым органом, коим природа наградила наших девиц, дам и вдов, благодаря чему они заглатывают добычу, что случайную, что законную, прямо на лету.
Могу также, вместе с Рабле, назвать его и «зверьком», поскольку он постоянно шевелится сам по себе: стоит лишь взглянуть на него или тронуть, как он приходит в движение и волнение, словно мучимый голодом.
Иные дамы, опасаясь простуды и насморка, ложатся в постель, не иначе как замотав голову шалью, чем, ей-богу, напоминают старых ведьм; днем, глядишь, такая дама разодета и расфуфырена на диво, прямо загляденье; ночью же, стерев краску с лица да закутавшись, становится страшна как смертный грех.
Эдаких дам надобно посещать и разглядывать еще до того, как заведешь с ними любовь или женишься; так поступал Октавий Цезарь в компании с друзьями: он призывал к себе знатных дам, римских матрон и девиц, достигших брачного возраста, и, повелев раздеться, осматривал с головы до ног, словно рабынь, выставляемых на продажу известным сводником по имени Тораний; и только убедившись, что дама не имеет телесных изъянов и пороков, наслаждался с нею.
Так же поступают и турки у себя на базарах в Константинополе и других больших городах, когда покупают себе рабов обоего пола.
Итак, не стану более распространяться на сию тему, ибо, возможно, и так уж наговорил лишнего; скажу только, что мы нередко обманываемся прекрасной видимостью; однако ежели некоторые дамы и внушают нам разочарование, то не беда: многие другие с лихвою возместят урон и досаду, ибо на свете столько красавиц — юных, свежих, благоуханных, чистеньких и аппетитных, что все прочие пред ними выглядят жалкими замарашками; мужчины, любуясь ими, впадают в великий соблазн и спешат перейти от созерцания к делу, дамы же частенько показывают себя без всякого стеснения, когда не страдают никакими недостатками, и сие прекрасное бесстыдство ввергает нас в еще больший соблазн и вожделение.
Однажды во время осады Ла-Рошели несчастный герцог де Гиз, ныне покойный, который удостаивал меня своим расположением и любовью, показал таблички, взятые им тайком у брата короля, нашего главнокомандующего; вынув их из кармана штанов, он сказал: «Месье крайне немилостив ко мне из-за дамы, которую мы не поделили, и я хочу отомстить ему: поглядите-ка и прочтите, что я там написал». Он передал мне таблички, и я увидел написанное его рукою четверостишие, в коем стояло одно неприличное слово, здесь неприводимое:
Коль вы меня ни разу не…
В том не моя вина.
Ведь вы меня нагою повидали,
Я преизрядно сложена.
Затем он назвал мне имя дамы или, вернее, девицы, которое, впрочем, я и сам почти угадал, и я выразил ему свое удивление тем, что Месье не прикоснулся к ней, хотя ухаживания его были весьма настойчивы и вызвали множество сплетен вокруг; де Гиз заверил меня, что так оно и есть, притом по собственной его вине. На это я отвечал: «Тогда, верно, одно из двух: либо он был слишком утомлен, чтобы действовать, либо столь захвачен созерцанием сей красоты, что забыл действовать». — «Возможно, — отвечал герцог, — но как бы то ни было, а он потерпел фиаско, и теперь я хочу посмеяться над ним — подсуну эти таблички ему в карман, и когда он, по своей привычке, полезет туда за ними, пускай-ка достанет и прочтет сей стишок, вот это будет славная месть». Так он и поступил, над чем впоследствии оба они весело посмеялись и позубоскалили, ибо их связывала тесная дружба, к прискорбию позже перешедшая в смертельную вражду.
Одна известная дама или, вернее, девица пользовалась любовью и благоволением госпожи своей, высокородной принцессы; вот однажды та отдыхала, лежа в постели, и тут пожаловал к ней некий дворянин, сгоравший от любви к принцессе, но не удостоенный высшей милости. Тотчас девица наша, пользуясь короткими своими отношениями с госпожой, подходит к ее постели и как бы невзначай сбрасывает с нее одеяло; дворянин, никогда не упускавший случая заглянуть куда можно и нельзя, тут же стал глядеть во все глаза и увидал (как сам позже и рассказывал мне) самое прекрасное зрелище в мире, а именно красивейшее обнаженное тело безупречного сложения, столь белое, стройное и упругое, какое бывает разве только у райских гурий. Однако волшебное это созерцание продолжалось недолго: девица отошла подальше, принцесса же поспешила схватить одеяло; к счастью, прекрасная дама никак не могла справиться с ним и, пытаясь прикрыться, только больше показывала себя со всех сторон, к великому удовольствию дворянина, пожиравшего ее глазами и отнюдь не спешившего помочь, дабы не прослыть дураком; наконец дама кое-как справилась с одеялом и укрыла свою наготу, браня — впрочем, довольно мягко — нерадивую девицу и грозясь наказать ее. Девица же, стоя в некотором отдалении от кровати, отвечала: «Сударыня, когда-то вы сыграли со мною шутку; простите, коли я ответила вам тем же!» — и вышла из спальни. Дворянин же остался и тотчас получил прощение.
Однако, как бы ни было дальше, он пришел от увиденного в такой восторг, что после не уставал твердить: ему, мол, ничего больше в жизни не нужно, как только вспоминать о том волшебном зрелище: думаю, он был прав, ибо несравненно прелестное лицо дамы и белоснежная ее грудь, вызывавшая восхищение видевших ее, обещали столь же упоительные красоты и под платьем; да и сам дворянин подтверждал безупречное ее сложение и величественную осанку, благодаря коим дама превосходила прочих женщин, подобно приграничной башне, что возвышается над всеми остальными.
Услышав рассказ этого дворянина, я, разумеется, сказал ему: «Что ж, дорогой мой друг, живите сим блаженным воспоминанием о небесной красоте, и да продлит оно ваши дни; а себе могу пожелать лишь одного: пусть судьба пошлет мне в дар столь же волшебное видение!»