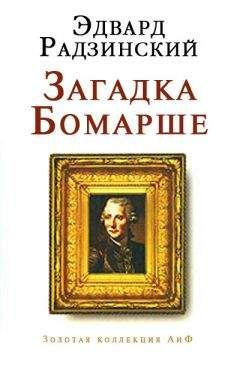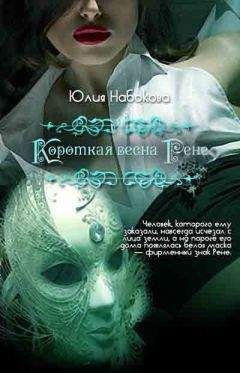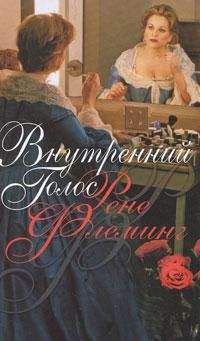– Мы укрепимся в Венсеннском замке и приготовим Париж к обороне. Мы воодушевим тех, кто в состоянии бороться против Бонапарта. Да, скорее всего, мы погибнем, погибнете и вы, Сир. Но эта гибель станет бессмертием Бурбонов. Честь короля, исполнившего свой долг, будет спасена! И последним подвигом Бонапарта станет убийство бесстрашного старца. Несколько часов сопротивления навсегда обагрят священной кровью триумфальное шествие вернувшегося тирана…
План Шатобриана пришелся королю по душе. Но как вытянулись лица у придворных! Они уже паковали королевские бриллианты…
И вскоре король, объявивший нации, что смерть за народ будет достойным финалом его жизни, который поклялся, что умрет только на французской земле… бежал в Гент! В ночь на 20 марта к Поэту явились из дворца и сообщили: король покидает Париж. И просили последовать за своим властелином. Он не хотел ехать, но Селеста буквально впихнула его в карету.
20 марта в четыре утра вне себя от ярости Поэт вместе с королем бежал из Парижа.
Наступили страшные дни в Генте. Король назначил Шатобриана исполнять должность министра внутренних дел, потому что тогда нашлось не много охотников на роли министров сбежавшего короля.
Бонапарт признал впоследствии, что Поэт в Генте «оказал королю важные услуги». Император был слишком щедр… Единственная услуга – Поэт дождался вместе с королем Ватерлоо.
Этой фразой (но лучше написанной) можно закончить очередную главу в его книге.
А потом было Ватерлоо, и Поэт вернулся в Париже королем вслед за иноземными солдатами.
Он жил в суете – вчерашний министр, а ныне пэр Франции.
Пришел октябрь, и наконец Поэт сумел сосредоточиться над книгой в Волчьей долине. Он торопился: с деньгами было неважно, и вскоре предстояло продавать любимое имение. А здесь хорошо писалось…
В Волчьей долине он вспомнил о странном госте. И вновь собрался поехать к нему в Шарантон.
Но накануне дня Святого Франциска приехала очаровательная Жюльетта. Они так давно не виделись…
Мадам Шатобриан изобразила радость. Жюльетта была частью славы Поэта, приходилось с нею мириться…
Октябрь опять выдался на редкость теплый. Светило солнце. Тишина, мирные звуки… Где-то пилили дрова на зиму… Аккорды пианино – это Селеста играла Моцарта. Нервно…
О, Жюльетта… Она – сама нежность… Они сидели в роще на ее любимой скамейке, там, где дорога поворачивала вверх к вершине холма.
– Тепло… будто лето. Какой прекрасный вечер!
Он помнил ее совсем юной, беззаботной, подставившей лицо дождю. Теперь она не любит сидеть при солнечном свете… Но в вечернем свете она прекрасна по-прежнему.
– Тишина, – сказал Поэт. – Падает лист, кружит на ветру, висит в воздухе… Ветер, вздохи – шорохи листвы.
Молчание. И ее слова, тоже как вздох:
– Мой милый друг… Она погладила его руку. Приглашение к беседе…
Их беседа могла показаться бессвязной, потому что в долгих паузах они продолжали разговаривать молча. Они и так понимали друг друга.
Она рассказала, как сразу, после битвы при Ватерлоо, Веллингтон решил совершить и другое завоевание:
– Герцог влетел ко мне в гостиную с криком: «Я разбил его в пух и прах!» Он был уверен – и здесь его ждет победа… Каков глупец!
Она ненавидела Наполеона, но еще больше – Веллингтона, посмевшего уничтожить славу Франции.
Он испытал те же чувства.
В книге надо соединить эту сцену с другим воспоминанием…
Войско Наполеона уже стояло совсем рядом с Тентом, где обосновался жалкий двор сбежавшего старого короля. И несчастный король, и двор, и сам Поэт ждали с часу на час начала решающего сражения. И уже приготовились бежать дальше…
Тогда, чтобы успокоить нервы, Поэт вышел на Гентскую дорогу.
С любимым томиком «Записок» Цезаря под мышкой он шел, печально улыбаясь своим мыслям.
Когда захотели арестовать мудрого Кондорсе, его узнали по томику Горация, с которым он не расставался. И если завтра Поэту суждено погибнуть, его опознают по любимому томику Цезаря…
Он шел по пыльной дороге в совершенном одиночестве. Где-то громыхал гром – он отчетливо слышал эти нарастающие удары. Однако небо… небо оставалось совсем безоблачным. И вдруг он сообразил: это были не гром и не гроза! Где-то совсем рядом шло великое сражение.
В этой битве сейчас решались и судьба Франции, и его судьба. Если победят союзники, то Поэт-министр вернется со своим королем-победителем в Париж, но… Но это будет конец славы Франции, ее оккупация. А если победит Наполеон, это будет конец его мечтам. И до смерти ему придется быть бездомным, нищим изгнанником.
И он… пожелал победы тому, кто преследовал его все эти годы!
Он выбрал славу Франции.
Но это была битва при Ватерлоо…
Все это он рассказал ей (и все это он напишет в книге). И опять – благодарное пожатие ее руки.
– Ах, моя Жюльетта… Наступает какая-то новая жизнь. Что же она нам сулит?
(«Кроме жалкой старости…» Этого он не сказал. Но она поняла.)
– Да, – ответила она. – Сколько великих имен кануло в Лету, сколько честолюбий, а мы вот живем, не переставая страдать…
– И славить Господа, – закончил он.
Поэт уже почувствовал приближение гения. Он откинул назад остатки кудрей. Это был все тот же Рене… ее Рене, перед которым никак нельзя было устоять.
Глаза его сверкнули. И он сказал несколько нараспев:
– Человечество живет между мучительными невозможностями. Люди мечтают о цивилизации равенства. Может быть, равенство и пойдет на пользу всему роду человеческому, но личности оно пойдет во вред. Невозможно для народа жить с титанами, которые не терпят равенства. И невозможно для духа жить без них.
И еще: свобода, а точнее – вечный беспорядок свободы порождает тягу народов к деспотии. Недаром сама деспотия вырастает из корня, называемого народным представительством. Так учил Платон. И это еще одна мучительная невозможность. Невозможность жить без свободы и невозможность жить без деспотии…
Я чувствую: наш век – это только начало пути в бездну. Готовятся вселенские катаклизмы. По нашему образцу восстанут целые народы. Ощущение грядущей великой крови не покидает меня. И все чаще мне мерещится зловещая рука, которую порой среди волн видят моряки перед великим кораблекрушением…
И этот добрый мир, который сейчас вокруг нас… Обрамленное плющом окно… путник на горизонте… холмы и летящая одинокая птица… покойные ночные шорохи – все исчезнет в катастрофах, в железных звуках грядущего. Но, успокаивая себя, дорогая, я говорю: «Грядущие кровавые сцены меня уже не коснутся, у них будут другие художники. Так что ваша очередь, господа!»