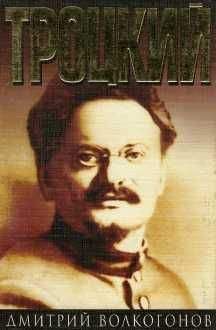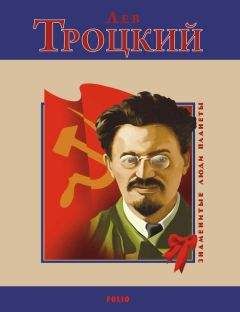Вместе с тем главное действующее лицо брест-литовской драмы сделало все, чтобы сохранить достоинство и свою революционную честь. Когда VII съезд партии в конечном счете одобрил предложение Ленина, Троцкий в своем кратком заявлении сказал: "Партийный съезд, высшее учреждение партии, косвенным путем отверг ту политику, которую я в числе других проводил в составе нашей брест-литовской делегации…. Хотел этого или не хотел партийный съезд, но он это подтвердил своим последним голосованием, и я слагаю с себя какие бы то ни было ответственные посты{7}, которые до сих пор возлагала на меня наша партия"[130]. К слову сказать, с тех давних пор добровольные отставки советских руководителей вышли из моды. Аппарат держится за свои державные портфели "до последнего".
Троцкий, судя по выступлениям того времени, поздним его воспоминаниям, искренне считал в январе — марте 1918 года, что "позорный мир с Германией" — не нравственное поражение революции, а акт ее капитуляции. Ему казалось, что партия перешла предел, после которого шансы на выживание революции минимальны. По духу в те драматические дни он был, конечно, ближе к "левым коммунистам", особенно когда Германия все ужесточала и ужесточала свои требования. Был момент, когда Троцкий увидел грозную надвигающуюся реальность полного поражения революций. Эта мысль также отчетливо прозвучала в его речи на VII съезде партии: мы "уступаем не только топографически, но и политически… Если мы дадим развиться этому отступлению во имя передышки с неопределенной перспективой, то… пролетариат России не в состоянии сохранить классовую власть в своих руках… Нынешний период передышки исчисляется в лучшем случае двумя-тремя месяцами, а вернее, неделями и днями. В течение этого времени выяснится вопрос: либо события придут нам на помощь, либо мы заявим, что явились слишком рано и уходим в отставку, уходим в подполье… Но я думаю, что уходить… если это придется, как революционной партии, т. е. борясь до последней капли крови за каждую позицию"[131]. Ясно, что Троцкий видел в Брестском мире призрак гибели революции, своего самого любимого детища.
Просчитавшись в намерениях и возможностях Германии, Троцкий из "героя" переговоров в один день превратился в исторического неудачника. На протяжении десятилетий в разных вариациях перепевалась сталинская ложь, заложенная в пресловутом "Кратком курсе":
"…Несмотря на то, что Ленин и Сталин от имени ЦК партии настаивали на подписании мира, Троцкий, будучи председателем советской делегации в Бресте, предательски нарушил прямые директивы большевистской партии… Это было чудовищно. Большего и не могли требовать немецкие империалисты от предателя интересов Советской страны"[132]. Но история в конечном счете все расставляет по своим местам. Троцкий просчитался лишь в сроках. Революционный подъем в Европе все же наступил! Напомню, ноябрьская революция в Германии привела к краху династии Гогенцоллернов и, как следствие, к аннулированию грабительского Брестского мира. Троцкий, "романтик" революции, слишком "программировал" революционные процессы, которые чаще всего идут спонтанно. У него хватило силы воли во имя революции перешагнуть через собственное "я". Он говорил об этом в своей речи на VII съезде: "Мы, воздержавшиеся, показали акт большого самоограничения, т. к. жертвовали своим "я" во имя спасения единства партии… Вы должны сказать другой стороне, что тот путь, на который стали, имеет некоторые реальные шансы. Однако это — есть опасный путь, который может привести к тому, что спасают жизнь, отказываясь от ее смысла…"[133]
Троцкий хотел в Бресте сразу слишком многого: вывести Россию из войны, поднять германский рабочий класс, сохранить престиж революционной России. Не его вина, а беда, что тогда эти задачи одновременно выполнить было невозможно. Троцкий еще раз показал, что революционер не может быть только исполнителем. Его брест-литовская формула оказалась ошибочной, но "мотивы" ее он черпал в "музыке" революции.
Больше всего Троцкого страшила возможность угасания революционного факела в России под сапогами германских солдат. В русской революции он видел великий Пролог мирового пожара, певцом которого был всю жизнь. Он был редким типом человека, одержимого одной идеей до своего последнего вздоха. Для реализации этой идеи нужно было насилие, насилие, насилие…
В конечном счете все прошлые революции кровавы. Да, Октябрьский переворот совершился бескровно. Но то было только начало. Переход власти к Советам, например, в Москве был уже иным. Политический взрыв очень часто сопровождается гражданской войной. Классовая ненависть прокладывает кровавую межу между соотечественниками. Ее особенно боялись и старались избежать русские интеллигенты. Мережковский в своей книге."Больная Россия" еще за несколько лет до событий 1917 года писал: "Во всякой революции наступает такая решительная минута, когда кому-то кого-то надо расстрелять и притом непременно с легким сердцем, как охотник подстреливает куропатку… Вопрос о насилии, метафизический, нравственный, личный, общественный, возникал во всех революциях". Рассуждая далее о судьбах русских революций (минувшей, 1905 г., и, как он чувствовал, грядущей), Дмитрий Сергеевич предсказывал: "Кто знает, может быть, величие русского освобождения заключается именно в том, что оно не удалось, как почти никогда не удается чрезмерное; но чрезмерное сегодня — завтрашняя мера всех вещей"[134]. Мережковский, чувствуя приближение революции, по сути, говорил о ее преждевременности. Что это: иррациональный страх интеллигента перед социальным катаклизмом или мрачное предвидение? Но писатель был не одинок, пугаясь грядущих потрясений, несущих, по его словам, "государственно-революционное "убий".
Даже Плеханов испугался призрака насилия, который маячил за спиной революции. То было одной из причин однозначного осуждения им Октябрьского переворота. По его мнению, только в том случае, если бы пролетариат составлял большинство населения России, то социалистическая революция была бы оправданна. По сути, он отодвигал ее в туманную даль будущего. Незадолго до своей смерти, мучаясь тем, что его, русского корифея научного социализма, многие петроградские газеты шельмуют как "буржуазного перерожденца", "контрреволюционера", Плеханов все же решил остаться честным перед самим собой и сказать прямо то, что думает о свершившемся. В "Открытом письме к петроградским рабочим" он утверждал: "Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года". Плеханов, став за долгие годы жизни на Западе типичным социал-демократом, никак не мог согласиться или примириться с наметившимся ходом событий. "Их последствия, — писал он в своем "Открытом письме", — и теперь уже весьма печальны. Они будут еще несравненно более печальными, если сознательные элементы рабочего класса не выскажутся твердо и решительно против политики захвата власти одним классом или, — еще хуже того, — одной партией. Власть должна опираться на коалицию всех живых сил страны, т. е. на все те классы и слои, которые не заинтересованы в восстановлении старого порядка… Сознательные элементы нашего пролетариата должны предостеречь его от величайшего несчастья, которое только может с ним случиться"[135].