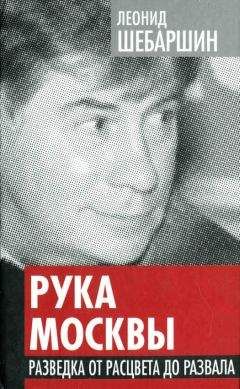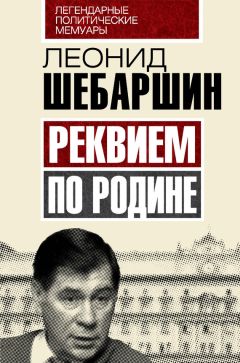Заклинившись на соотношении правды и жизни, Старик прибегал ко всяческим ухищрениям: пил только крепкий, очищающий разум, индийский высокогорный чай, переходил на известный, высвобождающий русскую душу напиток, не пил ничего, кроме молока. Итог был один: совершенно честного способа выжить ни одна человеческая общность, кроме семьи, кроме двух-трех друзей, не имеет.
Возникавшее было намерение припомнить все случаи, когда Генерала обманывали, а он, в свою очередь, обманывал подчиненных, незаметно исчезло. Об этом где-то, когда-то он уже рассказал. Растравливать душу не было смысла.
Дело шло к ночи, но за окном так же выли машины, так же неведомые люди мчались неведомо куда по своим загадочным делам.
«Кому повем печаль мою, кого призову к рыданию?»
«Shut up! — сказал себе Генерал. — Заткнись!». Время от времени он начинал думать на иностранном языке и говорить на нем сам с собой: «Shut up!», «Чуп рахо!», «Хамуш!».
Жизнь жестока, мы не имеем права быть мягкими.
За окном выли бездушные машины с бездушными водителями.
Напишет ли кто-либо когда-нибудь историю вселенской лжи не для того, чтобы разоблачить, но понять ее глубинные истоки?
Раз или два в год Генерала оповещали о собрании Союза ветеранов Службы. Обычно Старик долго раздумывал, пойти или не пойти. Время у него было, он наконец-то распоряжался самим собой, не имея иных начальников, кроме Бога. Конечно, это была всего лишь приятная иллюзия. Пока человек жив, любая российская быстротекущая власть может найти сколько угодно способов сделать его бытие невыносимым. К счастью, последние годы власть была занята своими делами: делилось непостижимо огромное богатство, накопленное русскими не за десятки, а за сотни лет ценой десятков миллионов жизней. Власть, которая поначалу подозревала было Генерала и его приятелей в покушении на соучастие в грабеже и следила за ними бдительным оком, через два-три года поостыла. Было не до стариков.
Тем не менее зримых начальников или хозяев его судьбы у Генерала не было.
После звонка из Союза начинались тягучие размышления: не пойти, так подумают, что обиделся или возгордился. И то и другое было бы неприятно. Пойти, смотреть на седины и лысины, не узнавать людей, с которыми когда-то работал? Переживать, что тебя не пригласили в президиум? Радоваться за людей, сидящих в этом самом президиуме, вспоминать, что они были твоими приятелями, а теперь вспоминают тебя (ты, к сожалению, жив) как невидимую миру занозу в их душах? Почему? Ни они тебе, ни ты им ничего не должен. Все счета были оплачены в прошлом.
Здесь вновь возникало не очень приятное для Старика обстоятельство. Как и все, он мерил людей на свой аршин. От этого никуда не денешься. Почему-то Старик думал, что в смысле человечности, доброго отношения к коллегам и вообще людям его преемники могли быть хуже его. Он вспоминал Якова Прокофьевича, Юрия Ивановича; не очень охотно, но честно признавал, что в человеческой и в то же время не мешающей делу доброте он им здорово уступал. Почему бы новое поколение не могло быть лучше его?
Кончалось дело тем, что Старик надевал свой праздничный костюм, купленный много лет назад в гигантском магазине во Франкфурте-на-Майне, критически оглядывал складку брюк (она стойко держалась в приличном состоянии). Выбирал из старинного хлама умеренно пестрый галстук, бывший в моде лет пятнадцать тому назад, долго и тщательно чистил ботинки, тоже купленные в доисторические времена в Париже. Все эти пустяки приводили Генерала в приподнятое, несколько раздраженное настроение. Противное ожидание какого-то афронта и не менее противной готовности постоять за себя.
«Суета сует... томление духа», — пытался подсказывать Генералу автор.
Старик соглашался с готовностью, он понимал свою неуместность и заранее с ней смирялся, но гордыне не прикажешь. И, конечно уж, нельзя было надеяться, что появится под рукой Ксю-Ша. Только она могла показывать все былое, настоящее и будущее в их справедливом соотношении. Генерал уходил в многолюдное беспокойное одиночество. Едва ли кто-то из прохожих на оживленной Тверской замечал его, ветерана, надутого чувством собственной значимости и озабоченного тем, чтобы не ступить случайно в лужу и не запачкать ботинки. Тяжелая, на резиновой подошве обувь, забрызганная московской грязью, — безошибочный признак того, что человек ездит на городском транспорте, а это в каком-то смысле показатель социального статуса индивидуума. В каждом обществе есть такие почти неприметные для постороннего символы. Демократические начальники, преуспевающие бизнесмены, деятели культуры отличались недавно заимствованным на Западе вниманием к мелочам экипировки, к аксессуарам туалета и внешней благообразности. Уж они-то в замызганных мокроступах на публику не явятся.
Генералу, когда-то привыкшему к персональному казенному транспорту (машина подъезжает прямо к парадному подъезду, кто-то распахивает дверцу, кто-то, вежливо улыбаясь, проводит прямо в подъезд, а там в специальную, для начальства, раздевалку), осваиваться с новой жизнью было непросто. Правда, еще будучи приближенным к вершинам власти, но не забывая плебейского своего происхождения, Генерал напоминал самому себе, что рано или поздно ему придется вернуться, в смысле житейском, к истокам. «Из праха ты вышел...»
Такими вот мелочными рассуждениями и занимался Старик на недолгой дороге к бывшему клубу им. Ф. Э. Дзержинского на бывшей улице Дзержинского, а теперь вновь Лубянке. Надо было сесть в любой троллейбус от Большой Грузинской до Пушкинской, пересесть в метро и, пожалуйста, одна остановка до Кузнецкого, а там несколько минут пешком до клуба. Удивительно, но на всем пути встретился лишь один нищий, одичалого вида человек, дремавший, спавший или уже умерший на каменных ступенях подземного перехода под Тверской близ дорогого отеля «Палас». В переходе на Пушкинской нищих не было. Стояли женщины, торгующие хлебом, пивом и колбасой, щенками и умилительными котятами, начинались дальше недешевые торговые ряды, сбивались в кучки сомнительного вида совсем молодые люди. Во всем ощущалась чья-то невидимая организующая воля.
Нищих не было. Человек даже с небольшими деньгами мог чувствовать себя здесь спокойно. Генерал не собирался ничего продавать или покупать, но небольшие деньги у него при себе были, и чувствовал он себя вполне уверенно, тем более что до метро удалось донести ботинки незапятнанными. В новой жизни это была маленькая победа.
Торговля на Кузнецком была столь же энергичной, что и на Пушкинской, но здесь в мешанину импортных товаров встревала отечественная квашеная капуста в прозрачных пластиковых мешочках и книжная торговля. Видимо, при всех коловратностях коммерческой и политической судьбы Кузнецкий невольно стремился сохранить свое место одного из интеллектуальных центров столицы. Тротуары здесь, однако, были погрязнее, чем на Пушкинской, а организующая рука несколько слабее.