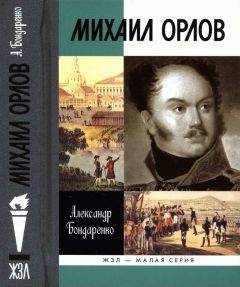К тому же, как мы сказали, арзамасские члены были преуспевающими чиновниками, тонко «чувствовали конъюнктуру», а значит, имели понятие, на кого следует обратить особенное внимание. Вот Филипп Филиппович и пишет: «Однако же и в России тогда уже был он хотя самым молодым, но совсем не рядовым генералом. Император имел о нём высокое мнение и часто употреблял в важных делах. В день Монмартрского сражения его послал он в Париж для заключения условий о сдаче сей столицы. После того отправлен был он к датскому принцу Христиану, объявившему себя норвежским королём, дабы уразумить его и заставить примириться со Швецией и Бернадотом. И такой препрославленный человек пожелал быть с нами! С восторгом приняли мы его»{233}.
Самым молодым российским генералом того времени мы Михаила Фёдоровича назвать не можем — нам уже известен граф Дмитриев-Мамонов; друг Орлова князь Сергей Волконский, будучи на девять месяцев его моложе, стал генералом в сентябре 1813 года; убитый при Бородине граф Кутайсов получил генеральские эполеты в 22 года… Но Орлов был из самых молодых, несомненно.
Зато всё остальное написано правильно и, что самое важное, — государь ему пока ещё благоволил…
Михаил вполне пришёлся ко двору в этой компании молодых, довольных жизнью остроумцев. Достаточно вновь обратиться к тесту его вступительной речи:
«…Как мне отвечать на справедливые возражения тех писателей, кои, зная моё отвращение к их книгам, не преминут обвинить меня в невежестве? Я уже в мыслях вижу с трепетом их ужасный сонм, предстающий предо мною в образе какого-нибудь нового словесного скопища…
“Как ты смел, — говорит один, — судить мои сочинения, ты, который ни одного из них не дочёл до половины?” “Тебе ли, — рцет другой, — разглагольствовать языком змеиным о ангелоподобных моих жёнах[147], тебе, которого я видел спящего и слышал храпящего при самом начале учинённого мною чтения в усопшей, но искони бессмертной 'Беседе'?” “Видел ли ты, — скажет третий, — где-нибудь подобного мне мудреца, сидящего безмолвным за трапезою учёных и определяющего достоинства сочинений одним вертикальным или горизонтальным движением головы?”»{234}. Etc.
Всё было бы хорошо, легко, беззаботно и весело, если б не определённый «пассаж» в заключение этой речи. Да и в середине своего выступления Орлов заявляет:
«Изнемогая пред славою, мне вами ссужденною, решился дать вам полное познание о новом члене вашего Общества. Сим одним могут согласить совесть мою с похвальным честолюбием. Внемлите и судите».
Далее идёт набор весёлых, порой на уровне ахинеи, утверждений — целых девятнадцать; в печатном тексте каждое из них начинается с красной строки, и почти все — с местоимения «Я»:
«Я не член Академии и не давал подписки быть присяжным врагом истинной учёности… Я не признаю за брата “Сына Отечества”… Я предпочитаю ведьму Жуковского всем красавицам Захарова…»
В конце этой изящной околесицы следует такое:
«Я исповедую, что не будет у нас словесности до тех пор, пока цензура не примирится с здравым рассудком и не перестанет вооружаться против географических лексиконов и обёрточной бумаги».
То, что следует после «и», можно отбросить — в первой половине предложения сказано абсолютно всё. Далее, несколько ниже, следует уже совершенно серьёзный вывод из сказанного:
«…Я сам чувствую, что слог шуточный не приличен наклонностям моим, и ежели я решился начертить сие нескладное произведение, это было единственно для того, чтобы не противиться законам, вами учреждённым. Исполняя долг повиновения, я надеюсь, что найду в вас не судей суровых, но снисходительных друзей, которые предпочитают искреннее желание угодить блистательнейшему успеху.
Итак, обращаюсь я с радостию к скромному молчанию, ожидая того счастливого дня, когда общим вашим согласием определите нашему Обществу цель, достойнейшую ваших дарований и тёплой любви к стране Русской. Тогда-то Рейн, прямо обновлённый, потечёт в свободных берегах Арзамаса, гордясь нести из края в край, из рода в род не лёгкие увеселительные лодки, но суда, исполненные обильными плодами мудрости вашей и изделиями нравственной искусственности. Тогда-то просияет между нами луч отечественности и начнётся для Арзамаса тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный призм предрассудков за пределы Европы»{235}.
Таким образом, Михаил предложил «арзамасцам» заняться политической и просветительской деятельностью, соответственно превратив литературный кружок в некое политизированное общество. Но это, после некоторого здравого размышления, не вызвало общего восторга его сочленов — недаром Вигель назовёт Орлова «опасной красой нашего “Арзамаса”». Не затем, думается, собирались вместе эти преуспевающие чиновники, чтобы на отдыхе, невзначай, порушить свою карьеру…
Хотя, как часто в подобных случаях бывает, поначалу предложениями Орлова все увлеклись и все горячо их поддержали. Как же могло быть иначе? Молодой генерал, герой войны, фаворит императора — и вообще безумно обаятельная личность, как тут не подпасть под его влияние?! К тому же идеи его были весьма современны, интересны и перспективны. Орлов, во-первых, предложил учредить журнал, «коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России»; во-вторых, он предлагал, чтобы каждый «арзамасец», живущий не в столице, мог организовать филиал общества по месту своего пребывания — и таким образом «покрыть всю Россию» сетью отделений «Арзамаса»…
Вот как на том же заседании откликнулся на выступление Орлова Александр Тургенев — Эолова Арфа:
«…Вами творец отличил людей от скотов и Арзамас от Беседы. Но сей Арзамас, друзья, в своей остроумной галиматье нередко представлял пустоту, достойную света; оттого я сидел в нём не смыкая глаз: ныне едва ли не первый совет благоразумия раздаётся в нашей храмине, и смотрите: моё тело спит, душа моя бодрствует; она продолжает сказанное Рейном.
О, Арзамас! Не полно ли быть ребёнком? Граждане Арзамаса! Не сердитесь: покойный член наш Франклин[148] называл всякое открытие новорождённым младенцем; нельзя ли по системе его назвать детьми и все новые Общества?»{236}
Впрочем, были и те, кто сразу же осторожно выступил против предлагаемых нововведений. Именно — осторожно! Резвый Кот укрыл свой протест за пышными велеречивыми словесами:
«…Сегодня уши ваши не страдали бы от моего мурлыканья. А вы, гордый, величественный и, если смею сказать, усастый[149] Рейн, превосходительный под знамёнами Марса и Аполлона, вы приняты были бы с великолепием приличным важности осанки, т. е. берегов ваших, и прозрачности состава вашего, отражающего все чудеса природы в нравственных и физических красотах её!.. О дивное влияние арзамасской атмосферы! Ей всё возможно: она соединяет всех и всё; сближает времена и народы; в ней жители древней Трои наяву обнимают спящую Эолову Арфу и с восхищением встречают красу германских рек, отныне ставшую любимой дщерью Арзамаса!