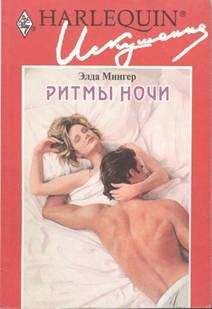Я прочитал эту записку дважды. Второй раз — вслух.
Была тишина, когда я кончил читать; камера замерла, занемела, насторожась. Затем все разом поворотились к Гусю.
Он скручивал папиросу; пальцы его ослабли внезапно — табак просыпался на колени… Медленно, очень медленно Гусь собрал его, ссыпал в ладонь, и пока он делал все это, камера молчала — ждала.
Потом он закурил, затянулся со всхлипом и поднял к нам лицо. Оно было спокойно (слабость прошла), только чуть подрагивала правая рассеченная шрамом бровь.
— Что ж, — сказал он, — с Цыганом мы действительно встречались.
— Значит, служил? — спросили его.
— Служил.
— Носил форму?
— Конечно.
— Награды имел?
— Да, — ответил он, — имел… Воинские награды!
Он легонько потрогал правую бровь, провел ладонью по щеке (там темнел широкий косой рубец) и сказал с привычной своей усмешечкой:
— Это все то же — отметки войны. Да, было, было. Почти вся армия Рокоссовского состояла из лагерников, из таких, как я! Нет, братцы, — он мотнул головой, — я не ссученный…
— А что есть сука? — спросил тогда один из блатных. (Лобастый и лысый, он звался Владимиром и потому имел кличку Ленин.) — Что есть сука?
— Сука это тот, — пробубнил Рыжий, — кто отрекается от нашей веры и предает своих.
— Но ведь я никого не предал, — рванулся к нему Гусь, — я просто воевал, сражался с врагом!
— С чьим это врагом? — прищурился Ленин.
— Ну как с чьим? С врагом родины, государства.
— А ты что же, этому государству — друг?
— Н-нет. Но бывают обстоятельства…
— Послушай, — сказал Ленин, — ты мужик тертый, третий срок уже тянешь — по милости этого самого государства… Неужели ты ничего не понимаешь?
— А что я, собственно, должен понимать?
— Разницу, — сказал Ленин, — разницу между нами и ими. Ежели ты в погонах…
— Я давно уже не в погонах!
— Неважно. Я вообще толкую. О правилах. Ежели ты в погонах — ты не наш. Ты подчиняешься не воровскому, а ихнему уставу. В любой момент тебе прикажут конвоировать арестованных — и ты будешь это делать. Поставят охранять склад — что ж, будешь охранять… Ну а вдруг в этот склад полезут урки, захотят колупнуть его, а? Как тогда? Придется стрелять — ведь так? По уставу!
— Это все теории, — пробормотал Гусь, озираясь.
— Бывает и на деле.
— А на деле я стрелял в бою. На фронте. И не вижу греха…
— Ну а мы видим, — жестко проговорил Ленин. — Истинный блатной не должен служить властям! Любым властям! — он шевельнулся, возвысил голос: — Так я говорю, урки?
— Так, — ответили ему.
— Так, — повторил он веско, — таков закон.
И вся камера подхватила нестройно и глухо: «Таков закон».
— Но он неправильный этот закон, — воскликнул Гусь. Он произнес это задыхаясь, скребя ногтями ворот. Рванул его и грузно спрыгнул с нар. — Значит, если я проливал кровь за родину…
— Не надо двоиться, — сказал ему Ленин. — Если уж ты проливал — так и живи соответственно. По ихнему уставу. Не воруй! Не лезь в блатные! Чти уголовный кодекс!
Во время этого разговора я молчал, держался особняком. В глубине души я искренне сочувствовал Гусю. Он был прав по-своему. Бесспорно прав! И все, что происходило здесь, казалось мне нелепым и несправедливым.
Но и те, кто отстаивал закон, тоже были правы — я сознавал это, чувствовал и маялся, раздираемый противоречиями.
Рыжий проговорил, наклоняясь к Гусю:
— Вчерась, помнишь, ты засомневался: не в ту масть, мол, попал… А ведь так оно и есть — не в ту.
— Ладно, — процедил Гусь и сдернул с нар вещевой мешок. — Не в ту масть, говоришь? Поищем другую.
И он ушел из Индии, причем ушел не один. В последний момент (когда он, стоя в дверях, стучал, вызывая дежурного) к нему присоединились еще трое.
— А вы чего? — окликнули их. — Или тоже проливали?…
— Конечно, — ответили они.
Уже уходя, задержавшись на миг в дверном проеме, Гусь сказал, озирая исподлобья камеру:
— Учтите, урки, нас иного. Крови мы не боимся. А она еще будет — большая будет кровь!
Вдруг он остро, пронзительно глянул на меня и усмехнулся, темнея лицом, оскалился судорожно:
— Ну а ты, падло, имей в виду: кто мне дорогу переходит — тот долго не живет… К тебе у меня особый счет. Запомни!
В лице его и в голосе было столько ненависти, что я содрогнулся невольно. За что он, кстати, так возненавидел меня? За эту прочтенную мной записку? Что ж, возможно… Но ведь я обязан был ее прочитать. Я не мог поступить иначе!
Вскоре после ухода Гуся в камеру ворвались надзиратели. Был сделан обыск. И на этот раз они нашли все, что искали. Им были известны теперь любые наши хитрости и тайники! Все острорежущис предметы — бритвы, иглы, стекло — мы прятали в хлеб. Для этой цели выделялась специальная пайка; ею жертвовал, обычно, самый удачливый игрок — обладатель лишних супов и каш. (Таким образом, он как бы платил обществу дань за богатство, за свое картежное счастье!) Хлеб разламывался, дробился на куски; своеобразные эти «объедки» оставлялись в самых видных местах — лежали на полке, сохли на подоконнике — и именно потому начальство не обращало на них внимания.
Теперь же все объедки были тщательно собраны и изъяты.
Веревки, нитки, карандаши (которые также запрещены!) покоились в щели под дверным порогом. Сюда надзор не заглядывал ни разу; сейчас вдруг заглянул.
— Вот же негодяй этот Гусак, — шепнул мне Рыжий, — настучал-таки, заложил нас, паскуда!
— Но, может, это и не он? — усомнился я.
— А-а-а, — наморщась, отмахнулся Рыжий, — какая, в сущности, разница? Он же у них — главный… Атаман шайки Червонных Валетов!
— Об чем это вы там шепчетесь? — спросил с подозрением старший надзиратель.
— Ни о чем, — отозвался я, — так… о погоде.
Дерзкий этот ответ не понравился ему.
— Поговори у меня, — проворчал он, нахмурясь, — поговори!
— А я и не говорю с вами, — возразил я усмешливо, — вы сами встреваете.
И тотчас же я пожалел о сказанном, раскаялся в том, что ввязался в ненужный этот спор.
Привлекать к себе внимание начальства было рискованно, тем более в моем положении! Дело в том, что за щекой у меня были спрятаны карты (они недаром изготовляются столь миниатюрными). Незаметные внешне, карты все же мешали мне, затрудняли речь. И старшой, очевидно, почуял это.
Он приблизился и с минуту разглядывал меня, шарил глазами. Потом приказал внезапно:
— А ну, раскрой пасть!
И тут же, не дожидаясь, покуда я сделаю это сам, полез мне в рот, раздирая пальцами губы.