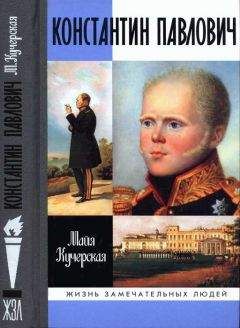И греки снова надеялись, ждали, составляли письма, теперь уже адресуясь самому великому князю Константину: «Провидение со временем, при помощи стихиев, да воспешествует, согласно сердечным желаниям ваших слуг, истребить тирана, несправедливо владеющего троном предка нашего Константина Великого; да прославится сим высочайшее имя вашего императорского высочества… Теперь настоит наиспособнейшее время к истреблению врага православия и мучителя человечества и к возвышению на престоле Константина, тебя, кротчайшего государя нашего»{43}. На конверте, в который было вложено послание, значилось: «Его высочеству, кротчайшему греческому самодержцу Константину III» (подразумевалось, очевидно, что первым был Константин Великий, вторым — Константин XI, замкнувший династию Палеологов; Константин Павлович оказывался на почетном третьем месте). Екатерина прочитала послание с улыбкой, написала резолюцию: «Нет ничего живее, как греческое воображение; они мысленно видят, и сие, им кажется, существует. Если письмо по почте пришло, то на почте и пропасть могло, и для того оставить можно яко неполученное; а если с кем прислано, то словесно сказать, что содержание письма сего есть рановременное»{44}.
Так что Константин Павлович письма этого так и не увидел. Скорее всего, оно было сочинено зимой 1789/90 года, когда в Петербург прибыла делегация греческих капитанов, не забывших об общих с русским флотом победах при Наварине и Чесме и явившихся просить у России новой помощи в борьбе с турками. Греки ожидали аудиенции с императрицей три месяца и лишь по ходатайству Платона Зубова были удостоены высочайшей беседы. Екатерина позволила вождям сулиотов встретиться и с юным Константином Павловичем, который на греческом языке пожелал воинам успеха{45}. Тем не менее по ироничной резолюции императрицы на послании очевидно, что в тот момент Екатерина относилась к «греческому проекту» с осторожностью. Не торопясь слишком обнадеживать греков, она ограничивалась выразительными символическими жестами — знакомила гостей с говорящим по-гречески внуком, писала пьесы с ясным политическим подтекстом.
В 1790 году, в разгар Русско-турецкой войны, в Эрмитаже было дано представление по пьесе самой императрицы «Начальное правление Олега», написанной еще в 1786 году и посвященной вторжению дружины князя Олега в Константинополь{46}; в конце пьесы щит Рюрика прикрепляли на знаменитом Константиновом ипподроме. О придворной постановке Екатерина предусмотрительно известила своих иностранных корреспондентов. Правда, «заступница верным», поборница православия и сокрушительница мечетей в своей пьесе несколько забылась, ни разу не упомянув о том, что Олег захватил христианскую столицу{47}. Константинополь в «Олеге» — столица не христианской, а Римской империи, апофеоз государственной и политической мощи{48}.
Сказка сказывалась гораздо складнее, чем двигалось дело, — даже взятие Суворовым Измаила не привело к немедленному заключению мира. Переговоры в Яссах затянулись еще на полгода — султан не торопился мириться, зная, что Пруссия и Англия готовы выступить против России. Не дожидаясь официального подтверждения русских успехов, 28 апреля 1791 года князь Таврический дал в честь победы последний в своей жизни великолепный праздник. Торжество воспроизводило атмосферу эллинизированного Эдема — с зимним садом, растущими на деревьях стеклянными сияющими плодами, с балетами, комедией, балом и ужином, с кадрилями, исполненными двадцатью четырьмя парами юношей и девиц, среди которых были и великие князья Александр и Константин{49}. В словах хора, сочиненных к празднику Державиным, славная будущность великих князей вновь рассматривалась сквозь призму образов Александра Македонского и Константина Великого.
Кто Александр великий,
Кто будет Константин…
Тот громы к персам несть,
Сей вновь построит Рим{50}.
В декабре 1791 года Турция все же вынуждена была признать присоединение к России Крыма и заключить Ясский мир. Но Константинополь по-прежнему принадлежал Порте. В 1793 году, в период угрозы очередной Русско-турецкой войны, Суворов даже начертал план его захвата, но другие события, на этот раз волнения в Польше, вновь отвлекли императрицу от заветной столицы.
НЕ ЦАРЬГРАД — ТАК ВАРШАВА
3 мая 1791 года четырехлетний сейм принял конституцию, вводившую наследственную монархию; причем королем Польши мог быть отныне только природный поляк. Конституция уравнивала в правах мещан и шляхтичей, обеспечивала правительственной защитой крестьян, а также отменяла и «liberum veto», согласно которому каждый участник сейма мог наложить вето на принимаемое решение — это делало сейм зависимым от любого депутата, в том числе прорусского, в том числе подкупленного иностранным государством. Екатерине справедливо почудился бунт, особенно неприятный на фоне недавней французской революции. Но пока продолжалась война с турками, императрице было не до поляков. Однако едва мир с Турцией заключили, на территорию Речи Посполитой были введены русские и прусские войска, и в январе 1793 года Россия и Пруссия осуществили второй раздел Польши. России достались Белоруссия и Правобережная Украина, Пруссии — Гданьск, Торунь, часть Великой Польши. В ответ в Польше поднялась волна возмущения, силы восставших объединились под предводительством генерала Тадеуша Костюшко.
В августе русские войска во главе с Суворовым уже шагали по территории Польши. Медлить Суворов не любил. Глазомер, быстрота и натиск.
24 октября (4 ноября) 1794 года Александр Васильевич взял Прагу, укрепленное предместье Варшавы. Сражение было кровопролитным, «умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола», «пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу». Прагу подожгли с четырех концов{51}. «До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвленные, а на берегу оной навалены были груды тел убитых и умирающих: воинов, жителей, жидов, монахов, женщин и ребят. При виде всего того сердце человека замирает, а взоры мерзятся таковым позорищем»{52}. Прага была буквально стерта с лица земли. То-то удивлялись русские офицеры, проезжая над Вислой спустя почти 20 лет. «Переезжаешь через Вислу, едешь чрез Прагу — и не видишь ее! Тут только одни пространные поля с хлебом, разрушенные окопы и бедные дома. Где же Прага? Ее нет: она высилась, как Кедр Ливанский; прошел мимо герой — и странник не находит, где она была»{53}.