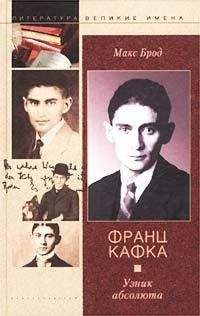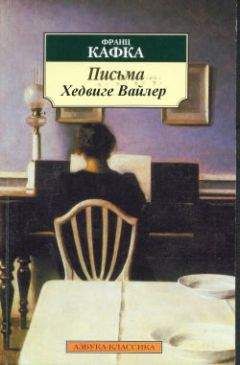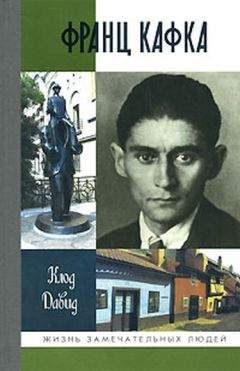И по сей день я полагаю, что фундаментальный вопрос: «какое влияние оказал на Кафку его отец?» – поставлен будто не самим Кафкой, а неким сторонним наблюдателем. Кафка нуждался в том, чтобы этот вопрос возник раз и навсегда как естественный и неоспоримый и довлел бы над ним всю жизнь как «груз страха, слабости и самоунижения». В «Письме» Кафка придает вердикту отца безграничную власть над своей жизнью и смертью (см. рассказ «Вердикт»). В нем говорится: «Мужество, решительность, уверенность, доброжелательность не могли быть выражены до конца, если ты им противостоял или даже только предполагал противостоять – что чаще всего я и делал… В твоем присутствии (ты – превосходный оратор) я начинал заикаться. Потому что это был ты – тот, кто вырастил меня, и ни о чем не мог говорить». Здесь можно провести одну примечательную параллель: кажется, Клейст тоже заикался при виде его отца и тоже страдал от этого. В отношении кого-либо другого, когда он был расположен говорить, он нарушал свое обычное молчание и говорил совершенно свободно, легко, элегантно, изумительно естественно и без всякого заикания.
Результатом отцовского воспитания было бесконечное страдание Франца, о чем он откровенно пишет в «Письме» (здесь Кафка приводит свой собственный комментарий к финалу романа «Процесс»): «В твоем присутствии я теряю уверенность в себе и испытываю безграничное чувство вины. Вспомнив об этом чувстве, я однажды написал с полной искренностью: «Он боится позора, который будет жить даже после него». Кафка делает ряд усилий, чтобы избавиться от влияния отца и найти место, где бы он был недосягаем. Когда Кафка оценивал чью-нибудь литературную работу, он судил очень строго и называл ее не иначе как «сооружение на идеальном фундаменте конструкции», которая, не имея ничего общего с живой жизнью, буйно разрастается в разных направлениях, крепко цепляясь за непомерно грубые и абстрактные комбинации. Однако сам Кафка зачастую впадал в подобное «конструирование» и подгонку деталей, что, с одной стороны, выходило естественно и неподдельно, а с другой стороны, было полуправдой или чрезмерным преувеличением. Вот почему Кафка хотел сконцентрироваться на литературной работе как на попытке «уйти от собственного отца», будто радость творчества и наслаждение искусством возникли не в результате их совместных усилий, а только лишь по его собственной воле. Для тех, кто знал его близко, он был совсем другим, нежели для тех, кто видел в нем лишь человека, носящего на себе печать отцовского влияния. Для близких он был человеком пылающим, жаждущим и умеющим мыслить, стремящимся к знаниям, интересующимся окружающей жизнью и любящим человечество. Частично Кафка сам обрисовал эту ситуацию в «Письме отцу»: «Мои записи были посвящены тебе, и в них я излил стенания, которые я не смог выплакать на твоей груди. Они были последовательно извлечены из моей памяти и сохранены, и хотя они были навязаны тобой, искусство их изложения принадлежит мне».
В «Письме» Кафка изложил свои взгляды на другие стороны жизни: на семью, на дружбу, на иудаизм, на профессию, наконец, на его две попытки жениться. «Мое мнение о себе зависело в первую очередь от тебя, а не от других обстоятельств, например от жизненных успехов… Я жил отверженным, и хотя я боролся за другую жизнь, мои усилия оказывались тщетными, поскольку я пытался сделать невозможное» .
После общего анализа своего детства Кафка переходит к унижающей самохарактеристике, написанной в весьма пессимистическом духе. Он говорит о том, что почти ничему не учился в средней школе, с чем я не вполне могу согласиться, в частности, касательно его познаний в греческом, поскольку мы вместе читали Платона в университете, и затем продолжает: «Сколько я себя помню, для меня была так важна проблема защиты моей души, что остальное было мне безразлично. Еврейские школьники в нашей стране часто отличаются странностями, у них можно найти очень своеобразные черты характера, но моя скрытность, флегматичность и детская беспомощность, иногда доходившая до смешного, были просто фантастическими. Моя замкнутость была моей единственной защитой от навязчивого ощущения страха и от чувства вины».
«Попытки скрыться» занимают особое место, хотя в целом и связаны с «Письмом отцу». Обращение к иудаизму как средству уйти от отца имело жизненно важное значение для его юности и особую важность – в последующий переходный период. Осознание иудаизма сказалось и на дальнейшем религиозном развитии писателя. «Я понял, что недалеко удастся мне убежать от тебя с помощью иудейской веры. Сам по себе этот побег возможен, но не более того, однако, может быть, мы найдем друг друга в иудейской вере или, по крайней мере, обнаружим исходную точку, из которой мы вместе отправимся по одному пути. Но что за иудаизм ты исповедовал! В течение многих лет мое отношение к нему менялось несколько раз. Когда я был ребенком, я соглашался с тобой и упрекал себя за то, что недостаточно часто ходил в синагогу, не соблюдал постов и т. д. Меня переполняло чувство вины.
Позже, когда я стал молодым человеком, я не мог понять, как ты, обладая лишь поверхностными знаниями в иудаизме, мог упрекать меня в безбожии и при этом даже не претворял в жизнь свои скромные познания. Для тебя религия была чем-то вроде шутки. Ты ходил в синагогу четыре дня в году, и, когда ты там находился, у тебя был безразличный вид. Ты был скорее индифферентен, чем серьезен, относился к чтению молитв как к формальности, иногда изумляя меня тем, что показывал в молитвеннике место, которое было только что пропето, однако оставаясь при мнении, что это всего лишь синагога, и поэтому разрешал мне крутиться и вертеться сколько я захочу. Я обычно зевал и томился много часов подряд (позже я так же скучал в танцевальных классах) и старался отвлечь себя хоть какими-нибудь занятиями – например, открыть раку со святыми мощами, что всегда напоминало мне тир на рынке, там тоже была коробочка, которую необходимо было открыть, но для этого надо было попасть в глаз быку. Трудно было ожидать, конечно, что из коробочки появится что-то интересное, потому что каждый раз оттуда выскакивали две старые безголовые куклы. Кроме всего прочего, я очень боялся посещать синагогу не только потому, как ты догадался, что меня окружало множество народу, но и потому, что ты как-то вскользь заметил, что меня могут вызвать читать Тору. Но, несмотря на все это, мало что могло развеять мою скуку, разве что обряд Бар Мицва, в котором требовалось глупое заучивание, и это казалось мне неким смешным экзаменом. Когда же тебя вызывали читать Тору, что я считал чисто общественным делом, то ты выполнял его подобающим образом; когда ты присутствовал на поминальной службе, меня отсылали прочь, и долгое время, очевидно, по этой причине, а в целом из-за полного отсутствия у меня интереса к этому обряду, у окружающих бытовало мнение, о котором я с трудом догадывался, что во всем этом было что-то неприличное. Это все, что касается синагоги. Дома твоя религиозность выглядела более жалким образом и ограничивалась ночным празднованием Пасхи, которое всегда заканчивалось веселой комедией, устраиваемой старшими детьми. (А почему ты это допускал? Да потому, что сам разыгрывал эту комедию.) Вся эта грязь, которая налипала на меня, разрушала мою веру. И самое лучшее, что мне оставалось делать, – это избавляться от нее как можно скорее, что и было бы самым богоугодным делом.