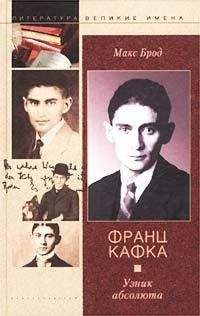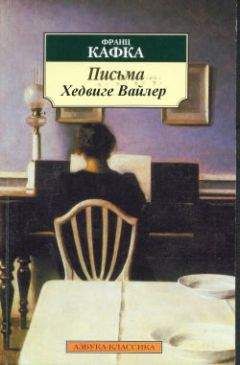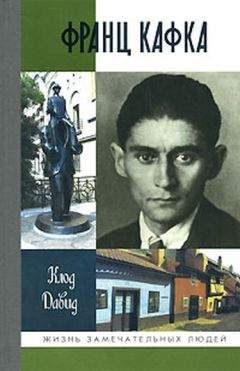Но гораздо позже я стал по-другому смотреть на вещи и понял, как предательски я вел себя по отношению к тебе. Иудаистская вера была обретена тобой в маленьком приходе похожего на гетто поселка, она была частично разрушена городской жизнью и службой в армии, но в то же время в твоей душе остались воспоминания и впечатления юности, и вера твоя приобрела особый оттенок. Ты все-таки не особо нуждался в иудаизме, потому что имел в своей душе непоколебимый стержень, и вряд ли тебя могли тревожить религиозные сомнения, если только они не соприкасались с социальными проблемами. Главная вера, которая вела тебя по жизни, была вера в абсолютную правоту еврейских бизнесменов, а так как вера эта была частью твоего происхождения, то она была и верой в самого себя. В этой вере вполне хватало иудаизма, но что касается твоих детей, им этого было недостаточно, и вера уходила капля за каплей сквозь твои пальцы. Частично это происходило из-за недостатка нашего общения в детстве, частично – из-за твоей внушающей страх персоны. Ребенка невозможно было заставить мыслить сверхкритически и поверить в то, что те незначительные детали, в которых заключался твой иудаизм, вкупе с твоей индифферентностью, могли иметь высшее значение. У тебя было свое мнение, сформированное как воспоминания старины, и ты хотел навязать это мнение мне, но так как оно не имело для тебя глубинного значения, то делал ты это через силу, и, с одной стороны, не мог добиться успеха, а с другой – не мог потерпеть поражения; и так как ты не осознавал слабости своей позиции, то свирепел от моей, как ты думал, непримиримости.
Как бы то ни было, твоя коммерция – это не обособленное явление: в переходный период многие поколения евреев покинули села, которые до сих пор остаются религиозными, и переехали в города; и многие семьи, так же как и наша семья, испытали горечь и боль. И ты, как и я, должен верить в свою чистоту в этом вопросе, но ты можешь объяснить эту невинность своим особым характером и нравами времен, а не просто внешними обстоятельствами, и сказать, к примеру, что ты был слишком загружен работой, чтобы чем-либо еще забивать свою голову. Таким образом ты можешь всегда использовать свою несомненную чистоту против других людей. Но этот аргумент в данном случае, как и во многих других, очень легко может быть опровергнут. Речь идет о том, чтобы давать своим детям не какие-то теоретические уроки, а учить их на примере собственной жизни. Если бы вера твоя была более строгой, твой пример, очевидно, был бы более убедительным, и это – совсем не упрек, а лишь способ избежать твоих упреков. Недавно ты прочитал воспоминания Франклина о его молодости. Я дал тебе их не для того, чтобы ты, как ты иронически заметил, ознакомился с отрывком, в котором говорится о вегетарианстве, а из-за того, что там говорится об отношениях между автором и его отцом и между автором и его сыном.
Я вновь убедился в твоих особых взглядах на иудаизм за последние несколько лет, когда тебе казалось, будто я проявил особый интерес к еврейскому вопросу. А так как у тебя вошло в привычку осуждать все мои занятия, а особенно мою любознательность ко всему на свете, ты невзлюбил и этот мой интерес. Однако можно было ожидать, что в данном случае ты сделаешь хоть маленькое исключение – ведь я заинтересовался твоей точкой зрения на иудаизм, и это могло бы привести нас к какой-то точке соприкосновения. Я не отрицаю, что если бы ты проявил интерес к моим взглядам, то это вызвало бы у меня подозрения. Я ни в коей мере не берусь утверждать, что я в этом отношении лучше тебя. Но на деле это никогда не будет доказано. И так как мой активный интерес к иудаизму вызывал у тебя возмущение, а иудейская литература казалась тебе нечитабельной и «отвратительной» – ты настаивал на том, что тот иудаизм, которому ты учил меня в детстве, – единственно правильная форма религии, и больше ничего не надо знать. Но мне это трудно было представить. Твое «отвращение» – кроме того, что оно относилось не к самому иудаизму, а ко мне лично, – означало только то, что ты, сам того не замечая, осознавал слабость своей веры и моего еврейского воспитания, а потому с раздражением реагировал на любые напоминания об этом. В любом случае твое негативное восприятие моего интереса к иудаизму было чрезмерным: во-первых, оно приносило тебе мучения, а во-вторых, имело фатальные последствия для моих отношений с друзьями».
Что касается матери, то в суматошном детстве она была символом благоразумия. Она не выступала в защиту сына, когда он жаловался ей, но все понимала, – и ее «несопротивление» было вызвано не только любовью к своему мужу, но и простым желанием уступить человеку, которому никто не мог перечить. Но мысль о том, что родители объединились против него, что мать лишь тайком может выражать свою любовь к нему, нашла глубокое отражение в творчестве Кафки. Вы можете найти ее в любых работах – прочитайте, например, рассказ «Супружеская пара». Если вы посмотрите на него под этим углом зрения, то увидите, что это произведение – одно из самых вдохновенных и личных. Каждое слово в нем, правильно понятое, наполнено смыслом, начиная от сетований по поводу бизнеса в начале и кончая словами жены мистера Н., адресованными визитеру или даже, скорее, незваному гостю: «Что бы вы ни говорили, мать может сделать чудеса. Она может сложить вместе то, что мы все разбили. Но я потеряла ее, когда была ребенком». И финальное замечание: «О, как много деловых начинаний оканчивается ничем, а мы продолжаем нести тяжелую ношу».
Странно не то, что Кафка очень рано понял, что ему чужд характер отца, и в то же время восхищался его жизнелюбием и силой. Странно то, что, ставши взрослым, Франц все искал у отца положительные черты. «У тебя особенно красивая и добрая улыбка, какую редко можно встретить», – говорит Кафка в «Письме». Он описывает моменты, когда его охватывало теплое чувство к отцу: «Это случалось нечасто, но это было чудесно. Например, когда я видел тебя жарким летом после обеда усталым, вздремнувшим у конторки; или когда ты приезжал в воскресенье, будучи изнуренным работой, к нам в деревню подышать свежим воздухом; или когда ты во время опасной болезни матери, рыдая, стоял, держась за книжный шкаф; или когда ты во время моей последней болезни осторожно зашел ко мне в комнату, встал в дверях и лишь помахал мне рукой, чтобы ободрить меня. В таких случаях я, ложась в постель, плакал от радости, и теперь я плачу, когда пишу об этом…» Он посвятил одну из своих книг, «Сельский врач», своему отцу. Франц часто рассказывал, что отец ответил ему, когда тот вручал ему книгу. Отец только произнес: «Положи ее на столик возле моей кровати».
Франц с большой грустью пишет в своем дневнике о вечере, устроенном в городском зале для бедного польского еврейского актера, на котором он произнес вступительную речь, и она вызвала большой интерес. Он пишет: «Моих родителей на вечере не было».