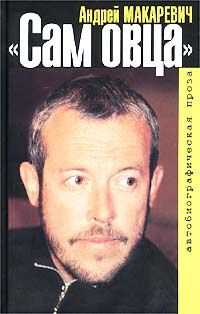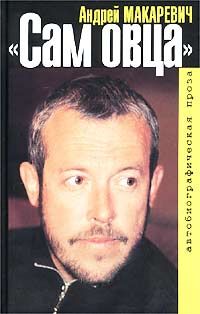Кухня начиналась сразу, если повернуть налево от двери в ванну. Была она большая, низкая и имела два окна во дворик. (Я их очень любил — всегда было видно и слышно, кто гуляет.)
Еще там был чулан и сени в черный ход. В сенях лежали дрова — дом наш отапливался печами, и во дворе стояли сараи для дров, у каждого своя секция с отдельной дверью, и привозили дрова на подводе, в которую была впряжена настоящая лошадь.
Стояли на кухне четыре газовые плиты — у каждой семьи своя. Я сидел на окне и смотрел во двор, а на плитах что-то варилось, пеклось, булькало, соседи делились впечатлениями от похода в «Бабий магазин», одалживали друг у друга муку и спички, строили планы обороны от злокозненной Аллы Петровны. Жили дружно. Это было сорок с небольшим лет назад.
Наша дверь вела не сразу в комнату, а сначала в узенький темный коридорчик. При всей его узости он еще был забит вешалками с пальто, какими-то сундуками и хламом. Освещался коридорчик тусклой-тусклой лампочкой, но до выключателя я не дотягивался, а окон в коридорчике, естественно, не было.
Я садился в темноте на сундук и боялся щуку.
Щука была нарисована в книжке «Русские народные сказки». Ее держал над прорубью русопятый Емеля, и была она жирная и зеленая, как гусеница. Глаз ее неприятно сверкал.
Я чувствовал, что щука водится где-то в районе коридорчика — возможно, затаилась у стены за вешалкой. Чтобы все обошлось, надо было или очень быстро миновать гиблое место, или уж застыть, не дыша, в полной неподвижности. Неподвижность почему-то гарантировала благоприятный исход в подобных ситуациях. Я расскажу об этом чуть позже.
Так вот, если удавалось проскочить коридорчик, то попадешь в комнату, из которой шла дверь в еще одну — мы по причине многочисленности имели две комнаты.
В двух комнатах жили: я, мои мама и папа, мамина сестра Галя и моя бабушка Маня.
Жила еще, как правило, моя няня. Няня приглашалась не для роскоши — просто мама работала и училась, папа работал, тетя Галя училась, баба Маня работала, и оставлять меня днем было не с кем.
Няни приезжали из деревни и время от времени сменяли друг друга. Сначала была тетя Маша Петухова, потом Катя Корнеева из деревни Шавторка Рязанской области, потом ее сестра Нина.
Как я сейчас понимаю, это был один из немногих способов молодой деревенской девушке попасть в город. Просто так паспорта в деревнях на руки не выдавали, для этого нужно было основание — временная прописка.
А тут уже няня выходила замуж за какого-нибудь солдата, и ее сменяла следующая.
Проводил я с ними дневные часы, но ничего особенно светлого не запомнилось. Помню, как тетя Маша уронила меня с рук на тротуар. Помню вкус разбитой губы и пыльного асфальта. Было мне года два с половиной. Еще помню, как строгая Нина ставит передо мной миску с самой ненавистной моей едой — творогом, растертым в кефире, — и будильник. Чтобы через пять минут все было пусто! В кефире плавают комки от творога, и от них кого угодно может вырвать. Нина исчезает на кухне, и я в полном отчаянии перевожу стрелки аж на полчаса назад и сижу обреченно, не дыша и с творогом за щекой.
Нина, видимо, была не очень сильна в часовой технике, и прошло какое-то время, пока она разгадала мой маневр.
Крики переносил безропотно, но в душе переживал страшно. Я вообще в детстве ненавидел есть. Ненавидел иезуитский прием, с помощью которого меня пытались пичкать. Коровка паслась на лугу, крестьяне ее доили, потом из молочка сделали творог, привезли в город, отец работал на работе, заработал деньги, купил творог в магазине, а ты, сволочь, есть не хочешь? Я мог спокойно принести из детского сада макароны за щекой. Но в детский сад меня отправили позже.
В первой комнате располагались: диван с тяжелыми жесткими, подушками и двумя валиками (я любил с ними бороться), черная рифленая печь до потолка, буфет с архитектурными излишествами — тогда других не было, хрущевская мода на «современное» еще не наступила. Потом — окно на Волхонку, потом — пианино «Красный Октябрь» в сером чехле и на нем — телевизор «КВН» с линзой.
Вся квартира (кроме Аллы Петровны, естественно) приходила к нам смотреть телевизор. Что показывали, было совершенно неважно — сам факт какого-то движения на экране являл из себя чудо и вызывал радостное изумление.
Еще посреди комнаты стоял старый дубовый стол со стульями. У стола были массивные квадратного сечения опоры, и я очень любил ходить под этот стол пешком — особенно когда приходили гости. Меня не было видно, а мне все было слышно; кроме того, я мог спокойно рассматривать всякие интересные ноги сидящих за столом.
Во второй комнате стоял комод с зеркалом, кровать мамы с папой, кровать моя, письменный стол и раскладушка тети Гали.
Как это все помещалось на десяти метрах, я не понимаю.
Впрочем, раскладушку на день убирали.
Одну стену целиком занимала книжная полка, вторую полку над моей кроватью строили уже при моей жизни.
Одно окно выходило на Музей Пушкина, другое — полукруглым выступом — на угол Волхонки. Дом наш имел очень толстые стены, и подоконники были очень глубокие — почти в метр.
Меня загоняли или относили спать, целовали на ночь, некоторое время я боролся со сном, силясь расслышать, о чем говорят взрослые в соседней комнате, потом проваливался в сон, и как укладываются родители и тетя Галя, я уже не слышал.
Ночью я просыпался оттого, что в комнате происходило страшное. На полукруглом подоконнике за моей головой шла таинственная жизнь. Во-первых, там обитали «огоньки» — маленькие существа, похожие на чаинки в стакане чая, если его размешать ложечкой. Они светились оранжевым светом, беззвучно роились над подоконником на фоне черного окна и иногда неожиданно небольшой стайкой перелетали ко мне на одеяло. Еще на этом подоконнике жили какие-то маленькие матросики — помню, что они были в матросской форме. Они надували небольшие цветные шарики, и у них там шел некий праздник. Они всегда гуляли сами с собой и подоконника не покидали — можно было, скосив глаза и затаив дыхание, наблюдать за их ночным весельем.
Это все были нестрашные обитатели. Но страшные таились рядом, и я это чувствовал. Они всегда входили через дверь и уходили через нее, причем я точно знал, что в нашей второй комнате они не задерживаются, а сразу идут через коридорчик в общий коридор и куда-то дальше. Самый страшный был маленький и очень толстый усатый дядька в красной турецкой шапочке — Тартарен из Тараскона с обложки одноименной книги. Он приходил искать меня, и вот тут-то надо было замереть, не дыша, и не дай Бог, если руки остались поверх одеяла. Я замирал, жители подоконника меня не выдавали, и дядька в конце концов уходил переваливаясь, недовольный. Какое это было облегчение!