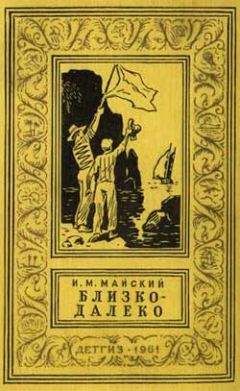ников не помешали им все-таки пожениться и создать
дружную, хорошую семью. Позднее, в Петербурге и в
Сибири, народнические увлечения отца выветрились, но он
навсегда остался искренним демократом, противником ца
ризма, свободомыслящим научным рационалистом. Рели
гии отец не признавал, и в нашем доме никогда не было
ни икон, ни лампадок, ни просфор. Вся наша семья была
воспитана в атмосфере атеизма, хотя, конечно, официаль
но все мы числились православными (вневероисповедного
состояния в то время в России не существовало) и, как
таковые, должны были выполнять некоторые религиозные
формальности. Правда, ни отец, ни мать никогда не ходи
ли в церковь, на страстной неделе не говели и не прича
щались, однако мне, гимназисту, приходилось в классе
изучать «закон божий», ходить по субботам ко всенощ
ной, а по воскресеньям к обедне и перед пасхой непре
менно исповедываться. Всякое уклонение от этого ритуа
ла имело последствием репрессивные меры со стороны
гимназического начальства — снижение балла за поведе
ние, замечания, выговоры, наконец, в известных случаях
даже исключение из учебного заведения. Поэтому волей-
неволей мне приходилось подчиняться существовавшему
в то время режиму.
Личное поведение отца было безупречно, быть может,
даже слишком ригористично и сурово. Он был бескорыст
но честен, никогда не гнался за частной практикой, за
деньгами. Не интриговал против коллег, не подхалим
ствовал, не занимался кляузами и доносами. Не пил, не
играл в карты, не танцовал, не ухаживал за женщинами.
Курить, как я уже упоминал, он бросил в ранней моло
дости. Редко ходил в театр, даже когда к тому имелась
возможность, ссылаясь на недостаток времени. Зато играл
23
на скрипке, и в первые годы жизни в Сибири сильно этим
увлекался. По его настоянию, и я в детстве стал учиться
игре на том же инструменте, но душа у меня не лежала
к этому занятию и по окончании гимназии я забросил свою
музыку. Спокойный, уравновешенный, молчаливый, всегда
поглощенный какими-то своими, ему одному понятными,
мыслями, отец ненавидел пустозвонство и признавал толь
ко дела. Сколько раз в детстве я слышал бросаемое им
по чьему-либо адресу восклицание:
— Фразер!
Это был предел презрения, негодования. Отец произно
сил свой приговор таким уничтожающим тоном, точно
рубил человеку голову.
Конечно, военный врач подобного склада не мог быть
«на хорошем счету» у тогдашнего начальства. И мой отец
действительно не был «на хорошем счету». Он приходился
совсем не ко двору в этой маленькой пьяной сибирской
провинции, в этом огромном военно-бюрократическом аппа
рате царской России. Его постоянно обходили, забывали,
оттесняли, подсиживали, вообще «задвигали», как только
могли. Не случайность, что до самого конца своей 25-лет
ней службы отец так-таки и не поднялся выше «младшего
врача» и «коллежского советника», несмотря на получен
ное им звание доктора медицины. Да и надо ли было это
му удивляться? Царский режим чувствовал, что он имеет
дело с врагом, и платил ему той монетой, какой платят
врагам.
Иногда отношения между отцом и начальством обостря
лись, доходили до открытых конфликтов. В бумагах отца
л нашел любопытную переписку между ним и директором
Московского кадетского корпуса, относящуюся к концу
1905 года. Отец, бывший в то время младшим врачом
этого корпуса, заведывал заразным лазаретом последнего
и очень гуманно и по-человечески относился к попадав
шим туда больным. Главное же, он не мешал кадетам
разговаривать на политические темы и выражать симпатии
к революционному движению. Директор корпуса генерал
Лобачевский был глубоко возмущен поведением «млад
шего врача» и 6 декабря 1905 года адресовал ему гроз
ную бумагу, в которой с негодованием заявлял, что
«нельзя же допускать, чтобы кадеты пели марсельезу», и
требовал от отца принятия мер к прекращению подобных
«безобразий». На следующий день отец ответил генералу
24
рапортом, в котором заявлял, что его обязанности к а к
врача состоят в том, чтобы лечить больных кадетов, но
не заниматься их политическим воспитанием. Директор
корпуса пришел в совершенную ярость и 16 декабря адре
совал отцу второе предписание, в котором вновь требовал
от него «установления порядка» в заразном лазарете, а в
заключение писал:
«Вместе с тем, будучи совершенно не согласен с ваши
ми взглядами на службу врана в кадетском корпусе, я
препровождаю мое предписание от 6 декабря и ваш ра
порт от 7 декабря окружному военно-медицинскому ин
спектору».
Последствием этого конфликта было то, что отцу
пришлось уйти из кадетского корпуса.
Нутряная, органическая прогрессивность отца, пожалуй,
ни в чем не сказалась так ярко, как в его отношении к
Октябрьской революции. Отцу было уже под шестьдесят,
когда власть Советов утвердилась в нашей стране. Воз
раст, традиции, нажитые привычки — все, казалось, долж
но было настраивать его подозрительно и даже враждебно
к новому, не имевшему прецедента в истории строю. На
самом деле вышло, однако, иначе. Правда, в самом нача
ле—в конце 1917 и в первые месяцы 1918 года — все
происходящее вызывало у отца вопросы и недоумения.
Он не понимал толком, что происходит, кто такие больше
вики, чего они хотят, какие ставят себе задачи. Однако в
вопросах и недоумениях отца не было никакой злостно
сти, никакой враждебности. Совсем напротив. Он только
остался верен самому себе: он встретил новое, не знако
мое ему явление и, следуя своей всегдашней научной ма
нере, хотел изучить и исследовать это явление, прежде
чем делать окончательные выводы. Очень скоро отец по
чувствовал симпатию к большевикам, хотя и не всегда
соглашался с ними на все «сто процентов». В основном,
однако, он одобрял их генеральную линию. Особенно нра
вилось отцу, что большевики начисто ликвидировали те
гнусные, реакционные, насквозь прогнившие силы старого
режима, от которых самому отцу так много приходилось