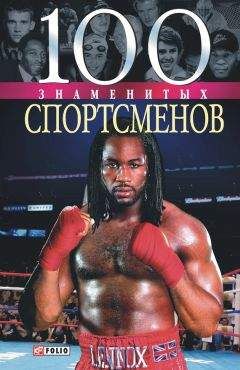Он лениво прошел вдоль вокзала. У газетного киоска какой-то тощеватый ханурик с усиками читал толстый журнал в серо-голубой обложке, а старик-киоскер ворчал на него, дескать, не читальня. Вокруг шумела вокзальная Москва, лязгали трамваи, фырчали такси и автобусы, а тут один хмырь читал, а другой на него злился - и смотреть на эту комедь раздосадованному лейтенанту было чудно и почему-то приятно. Так и разило штатской юностью с сидением в библиотеках.
Через плечо тощего очкарика лейтенант заглянул в журнал и увидел, что ханурик глотает стихи. Стихи не больно интересовали, но ханурик, которого Курчев по неосторожности толкнул, с презрением взглянул на лейтенанта и тут же уткнулся в журнал.
В полку Борис ходил за штатского, но в городе почему-то вдруг становился оскорбленным армейцем. Словно внутри вырастала какая-то лишняя военная косточка.
- Папаша, дайте и мне, - кивнул Курчев на книжку журнала. Он заметил, что на прилавке больше грязно-голубых обложек не было.
- Отдайте, гражданин, - с удовольствием сказал киоскер. - В читальне досмотрите.
- Пусть читает, - с показной ленцой отмахнулся Курчев.
Очкарик в сомнении оторвался от журнала, беспомощно и беззащитно поглядел на офицера, но интерес к стихам пересилил, и он снова уткнулся в страницу.
- Возьмите себе, - брезгливо бросил Курчев и покраснел. Реплика попахивала пошлостью.
- Спасибо, я домой получаю, - дернулся, как от пощечины, очкарик и возвратил журнал.
Курчев скатал его в трубку и засунул в карман шинели, но тот наполовину высовывался.
"Чёрт, сумки не взял. В урну, что ли, кинуть? Пижон проклятый", ругнул себя. - Позвонить опять старушенции? Сказать, что передумал машинка нужна? Заодно и узнаю дом отдыха. Может, съезжу сегодня. Съездишь, как же, - передразнил самого себя, снова закрываясь в автоматной будке. Она с Лешкой в Питер умоталась. А дом отдыха - предлог для домашних".
Он набрал телефон Сеничкиных.
- Да, - отозвался голос министра. - Ты, Борис? Далеко? Дуй сюда. Пообедаем вместе.
- Сейчас буду, - обрадовался Курчев, словно ему было двенадцать лет и дядька приехал к ним в Серпухов. Он бросился к стоянке такси и в четверть часа добрался до Кудринки.
- Давай поухаживаю, - сказал министр, стаскивая с племянника шинель. Что, тоже купил?
- Чего? - не понял Борис. Он улыбался, глядя на родича. Тот высился в коридоре - огромный, без пиджака, в жилете, похожий на цивилизованного купчину или американского заматеревшего боксера, оставившего ринг. За ворот свежей, видимо, только утром надетой рубахи была заправлена жестко накрахмаленная салфетка.
- Прасковья Прокофьевна, еще прибор, - пробасил дядька в сторону кухни. - Тетя Оля на совещании, так мы с тобой по-холостяцки, - подмигнул племяннику и достал из буфета начатую бутылку армянского коньяка.
Гостиная вся светилась, будто солнце било в нее не из окна, а со всех четырех стен. Шелковая спина дядькиного жилета сверкала, как выпуклое зеркало.
Горбатенькая домработница внесла тарелку с супом.
- Ни-ни, не уносите, - запротестовал министр, когда она хотела переложить на диван "Огонек", раскрытый на портрете Сталина, и третий номер "Нового мира" в картонной обложке, который (это помнил Курчев) стоил на два рубля дороже.
- Вон гляди. Видел? - взял "Огонек". - Старик ничего, а?
- Неизвестный снимок, - сказал племянник. На Сталине не было погон, хотя фотография была явно последних лет.
- Неизвестный? Сказал тоже... Самый что ни на есть известный. Такой и был. А все остальные - намалеваны, ретуши на них больше, чем снимка.
- Часто видели?
- Часто не часто, но доводилось. Год назад что было?! А теперь - всего один портрет.
- Так сегодня только третье.
Курчеву хотелось есть. Суп стыл на тарелке, а дядька, воодушевленный снимком, коньяку еще не разливал.
- И пятого тоже не будет. Вот снимок, стихи - и все. Теперь постановление - одни рождения отмечать.
- Да, я слышал.
- А чего слышать? В газетах было. Стихи прочел?
- Какие?
- Журнал купил, а стихи не читал. Спереди они. Сейчас зачту тебе. Вот выпьем только.
- Ни-ни, в память не чокаются, - отстранил Василий Митрофанович рюмку.
- Так ведь третье еще, - повторил племянник.
- Все равно. По такому человеку можно и неделю отмечать. Вот послушай. Или голодный? Так ты ешь, а я тебе главное. Где оно? Я вроде подчеркивал.
Министр пошарил на столе очки. Не нашел, крикнул домработницу. Она принесла, но не те. Тогда решив, что шрифт достаточно крупный, министр, вытянув журнал в увесистой левой ручище, стал громко, но запинаясь, как в первом классе приходского училища, читать:
Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть сорок лет и больше будь.
- Понимаешь, Борька, а?! - прервал чтение. - Да нет. Тебе не понять. Ты сирота, - запустил он свободную руку в негустую шевелюру племянника.
- Вот это - стихи! Не то что у контрика... Как его фамилия, забыл...
- Гумилев?
- Да. По кронштадтскому мятежу припух. Вот нашел:
И тем верней, неотвратимей
Ты в новый возраст входишь вдруг,
Что был он чтимый и любимый
Отец - наставник твой и друг...
Так мы на мартовской неделе,
Когда беда постигла нас,
Мы все как будто постарели
В жестокий этот день и час.
- Здорово, правда?
- Угу, - кивнул Курчев, наклоняя тарелку от себя, как учила переводчица.
- Там еще хорошее есть. Давайте второе, Прасковья Прокофьевна. Еще по одной примем, а?
Горбатенькая внесла шипящую, сверкающую, как чайник, сковородку. Министру жаркого наложила с верхом, а лейтенанту деликатно, чуть прикрыв донышко тарелки.
- Чего жидитесь? - сдвинул брови Василий Митрофанович. - Солдата накормить не можете?
- Алексей Васильевич и Марьяна Сергеевна не кушали...
- Кладите все. Еще чего-нибудь сочините. Подумаешь, пища. Голод на Волге, да?
- Мне больше не надо, - отодвинул тарелку Курчев. Он обрадовался, что Лешка в Москве и дом отдыха действительно оказался домом отдыха.
- Ничего, не красней, - снова погладил его министр. - Весь уют нам попортила, Прокофьевна.
- А мне чего? Я, как велено, - ухмыльнулась горбатенькая и вывалила лейтенанту в тарелку все, что осталось на сковородке.
- А, мать ее бляху кривую, - пустил ей вслед министр. - Сбила меня. Придется добить бутылку. Как полагаешь?
- Я всегда... - усмехнулся Курчев. - А Ольга Витальевна?
- Ну, ты это брось, - подмигнул Василий Митрофанович. - Это бабка твоя все пела, что я под каблуком, царствие ей небесное. А я просто уважаю тетю Олю. Уважаю и люблю. И обижать ее не к чему. Люблю и уважаю, - повторил с вызовом. - А ты - нет. И тебя, Борис, все равно люблю. Ты мне родная кровь. Ты один да Надька. А Надька начала... Догадываешься?