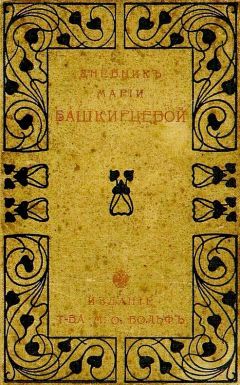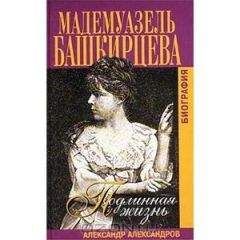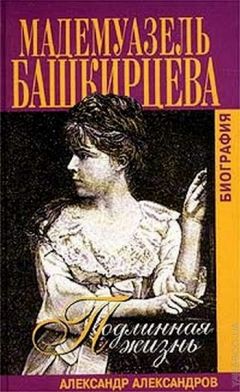Меня называли мухой, но я не могла выговорить «Х» и говорила мука. Мрачное совпадение.
Я видела во сне А… в первый раз после отъезда из Ниццы.
Доминика с дочерью приехали сегодня вечером; я писала им утром. Долго сидели в столовой, которая соединяется с залой посредством арки, без всякой драпировки.
Мое платье «Agrippine» имеет большой успех. Я пела, не переставая ходить, чтобы преодолеть этот страх, который всякий раз охватывает меня, когда я начинаю петь.
— К чему писать? О чем мне рассказывать? Я вероятно навожу отчаянную скуку… Терпение!
Сикст V был только свинопасом и Сикст V сделался папой!
Будем писать дальше.
Тетя Леля вносит точно струю воздуха из Рима… Мне казалось, что мы только что вернулись из оперы или с Пинчио.
Громадная библиотека дедушки представляет большой выбор любопытных и редких сочинений. Я выбрала из них несколько, чтобы читать с тетей Лелей.
Четверг, 26 октября. Благословляю железные дороги! Мы в Харькове, в знаменитой гостинице Андрие, и уехали на тридцатилетних дедушкиных лошадях. Отъезд был взрывом искренней, простой веселости. Даже дышишь иначе с людьми, которые желают вам только добра.
Гнев мой прошел, и я опять думаю о Пьетро. В театре я не слушала пьесы и мечтала, но я в том возрасте, когда мечтаешь о чем бы то ни было, лишь бы мечтать.
Ехать ли мне в Рим или работать в Париже?
Россия нестерпима в том виде, в каком я вижу ее, благодаря обстоятельствам. Отец вызывает меня телеграммой.
Суббота, 27 октября. Вернувшись из Чернякова в наше старое гнездо, я нашла письмо от папа.
Весь вечер дядя Александр и жена его советовали мне увезти отца в Рим.
— Ты можешь это сделать, — сказала тетя Надя, — сделай — это будет настоящее счастье.
Я отвечала односложно, так как дала себе нечто вроде обещания не говорить об этом ни с кем.
Придя к себе, я сняла один за другим все образа оправленные в золото и серебро. Я поставлю их в мою образную, там.
Воскресенье, 29 (17) октября. Я сняла также картины, как и образа. Говорят есть одна картина Веронезе, одна Дольчи, я это узнаю в Ницце. Принявшись снимать картины, я захотела увезти с собою все. Дядя Александр казался недовольным, но мне трудно было сделать только первый шаг, а потом я продолжала спокойно.
Тетя Надя попечительница соседних школ. Она с удивительной энергией взялась за дело просвещения здешних крестьян.
Сегодня утром я вместе с тетей Надей побывала в ее школе, а потом разбирала старые платья и раздавала их направо и налево.
Явилась целая толпа женщин, надо было дать что-нибудь каждой.
Вероятно, я больше никогда не увижу Черняковки. Я долго бродила из комнаты в комнату, и это мне было очень приятно. Обыкновенно смеются над людьми, для которых мебель, картины составляют приятные воспоминания, так что они приветствуют их и видят друзей в этих кусках дерева и материи, которые, послужив вам, приобретают частицу вашей жизни и кажутся вам частью вашего существования. Смейтесь! Самые нежные чувства всего легче обратить в смешное; а где царствует насмешка, там нет места нежным чувствам.
Среда, 1 ноября. Когда Поль вышел, я осталась наедине с этим честным и чудесным существом, которого зовут Пашей.
— Так я вам все еще нравлюсь?
— Ах, Муся, как мне говорить об этом с вами!
— Очень просто. К чему молчать? Почему не быть прямым и откровенным? Я не буду смеяться; когда я смеюсь — это нервы и ничего больше. Так я вам больше не нравлюсь?
— Почему?
— Потому, потому что… я сама не знаю.
— В этом нельзя отдать себе отчета.
— Если я вам не нравлюсь, вы можете это сказать — вы достаточно для того откровенны, а я достаточно равнодушна. Скажите, что именно, — нос? или глаза?
— Видно, что вы никогда не любили.
— Почему?
— Потому что с той минуты, когда начинаешь разбирать черты, когда нос находишь лучше глаз, а глаза лучше рта… это значит, что уже больше не любишь.
— Это совершенно верно. Кто вам это сказал?
— Никто.
— Улисс?
— Нет, сказал он, — я не знаю, что в вас мне нравится… скажу вам откровенно: ваш вид, ваши манеры, особенно ваш характер.
— Что же, у меня хороший характер?
— Да, если бы вы только не играли комедии, чего невозможно делать всегда.
— И это правда… А мое лицо?
— Есть красота, которую называют классической.
— Да, мы это знаем. Далее?
— Далее, есть женщины, которые проходят мимо нас, которых называют красивыми и о которых потом не думаешь… Но есть лица и красивые, и очаровательные… которые оставляют впечатление надолго, возбуждают чувство приятное… прелестное.
— Отлично… а потом?
— Как вы меня допрашиваете?
Я пользуюсь случаем, чтобы узнать немножко, что обо мне думают; я не скоро встречу другого, кого мне можно будет так допрашивать, не компрометируя себя.
— И как явилось в вас это чувство — вдруг или мало-помалу?
— Мало-помалу.
— Гм… Гм…
— Это лучше, это прочнее. Что полюбишь в один день, то в один день и разлюбишь.
Разговор длился еще долго, и я почувствовала уважение к этому человеку, для которого любовь — религия и который никогда не замарал ее ни словом, ни взглядом.
— Вы любите говорить о любви? — спросила я вдруг.
— Нет, равнодушно говорить о ней — святотатство.
— Но это забавно.
— Забавно! — воскликнул он.
— Ах, Паша, жизнь — ничтожность!.. А я была когда-нибудь влюблена?
— Никогда! — отвечал он.
— Из чего вы это заключаете?
— Из вашего характера; вы можете любить только по капризу… Сегодня человека, завтра платье, послезавтра кошку.
— Я в восторге, когда обо мне так думают. А вы, мой милый брат, были когда-нибудь влюблены?
— Я вам говорил. Я вам говорил, и вы знаете.
— Нет, нет, я говорю не о том, — сказала я с живостью, — но прежде?
— Никогда.
— Это странно. Иногда мне кажется, что я ошибаюсь, и что приняла вас за нечто большее чем вы есть.
Мы говорили о безразличных вещах, и я ушла к себе. Вот человек… Нет, не будем думать, что он прекрасный — разочарование было бы слишком неприятно, Он признался мне, что будет солдатом.
— Для того, чтобы прославиться, говорю откровенно.
И эта фраза, сказанная из глубины сердца полузастенчиво, полусмело и правдивая, как сама правда, доставила мне огромное удовольствие. Я, может быть, преувеличиваю свои заслуги, но мне кажется, что прежде честолюбие было ему незнакомо. Я помню, как его поразили мои первые слова о честолюбии, и когда я говорила однажды о честолюбии во время рисования, он вдруг встал и начал шагать по комнате, бормоча: