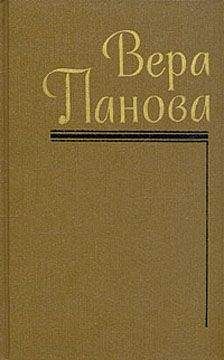Критик Л. М. Суббоцкий, принимавший участие в обсуждении, сказал, что он покажет эту повесть (собственно, первую ее часть) редколлегии «Знамени», потом я узнала, что он был членом этой редколлегии. Он сдержал обещание — через несколько дней эта первая часть была прочитана Всеволодом Вишневским (главным редактором), Н. Тихоновым и А. К. Тарасенковым, заместителем Вишневского.
В областной комиссии мне сказали, чтобы я зашла в редакцию «Знамени» к Тарасенкову. Я пошла, конечно, сейчас же. Редакция представляла тогда ряд крохотных фанерных комнатушек, похожих на птичник, где чирикали разные дамы. Они, как и Тарасенков, встретили меня отменно любезно, называя по имени-отчеству, и передали мне записку от Вишневского. Записка эта представляла собой лестную рекомендацию в Союз писателей.
Тарасенков тоже очень лестно отозвался о моем «Санитарном поезде», но сказал, что дал прочесть рукопись еще одному человеку, вкусу которого он доверяет абсолютно. Он назвал имя Софьи Дмитриевны Разумовской, дал ее телефон и просил нынче же вечером ей позвонить.
Я позвонила и услышала милый щебечущий голос, говоривший самые приятные слова.
На мой вопрос о договоре с журналом Софья Дмитриевна ответила, что считает это дело безусловно решенным и что она будет моим редактором.
Действительно, все пошло на первых порах как по маслу. Со мной подписали договор, я побывала у Н. С. Тихонова и приняла его совет дать повести другое, менее скучное название, только еще не могла придумать какое.
Оставалось возвращаться в Пермь и заканчивать повесть, ее надлежало сдать в октябре уже целиком, до последней точки.
Заканчивала я повесть возле кипящего самовара бабушки Андреевны, на редакционных столах в «Сталинской путевке». Мне и хотелось скорее закончить эту работу, и жутко было — вдруг она окажется плохой и никто ее не напечатает. Хотя сознаюсь по совести: то, что я писала, мне нравилось. А я уже догадывалась, что если писателю нравится написанное им, то понравится оно и читателям. Наоборот, то, что сам автор признает неинтересным, читателю ни за что не понравится; более того, автор не имеет нравственного права предлагать читателям то, что не нравится ему, автору.
Начиная со «Спутников», еще в разгаре работы я сокращала рукопись, без жалости выбрасывая целые куски, если они казались мне неудачными. Выбрасывала из рукописи, после перепечатки, из машинописного текста, потом при правке корректур. Такие сокращения я считаю весьма плодотворными, без них, мне кажется, просто нельзя. То, что остается после этих вымарываний, и есть наилучший вариант.
Писала я «Спутников» в общей сложности около восьми месяцев, одновременно продолжая работать в газетах и на радио. Ни одна моя книга не писалась так счастливо и легко.
В начале октября 1945 года я поставила в рукописи последнюю точку и поехала в Москву сдавать повесть «Знамени».
С волнением входила я в знакомые фанерные коробочки, где помещалась редакция. Все мои знакомые были на своих местах и встретили меня еще приветливее, чем прежде, — видимо, то, что работа сделана к сроку, повысило симпатию и доверие к безвестному автору. А. К. Тарасенков так и начал свою внутреннюю рецензию: «Мы не ошиблись, поверив, что повесть будет хорошая». Конечно, у редакции нашлись и замечания, и требования к рукописи. Моим редактором была милая Софья Дмитриевна Разумовская, с которой с тех пор я связана задушевной дружбой. Дружба, правда, родилась не сразу. Сперва мы несколько раз подолгу сидели с Софьей Дмитриевной в ее крошечной уютной квартирке в Дмитровском переулке. Ее работа была очень своеобразна и очень полезна для начинающего автора. Она показывала на какой-нибудь эпитет и говорила: «не так» или: «невкусно», и, как ни странно, я тотчас ее понимала. Иногда кончик ее карандаша указывал на мои языковые промахи, это тоже было очень для меня важно, ведь я говорила (значит, сплошь да рядом и писала) на южном жаргоне, кишевшем неправильностями. Хочу оговориться, что столь дружественной была лишь наша совместная работа над «Спутниками», уже за рукописью «Кружилихи» я стала очень нетерпимой к любому редакторскому вмешательству, для меня стало важней всего мое собственное, авторское отношение, и, словно поощряя меня в этом, судьба с тех пор посылала мне редакторов столь снисходительных, столь готовых во всем со мной согласиться, что я их совершенно не чувствовала, словно их и не было. Исключение представлял один лишь А. Т. Твардовский, но это уж особь статья, для меня это был не редактор, а старший товарищ, взгляду и вкусу которого я верила больше, чем своим собственным.
В «Знамени» я, конечно, бывала ежедневно — уже не могла жить вне этой среды, без этих людей и их интересов.
Однажды, идя из редакции, я встретила на Старой площади моего Данилова — Ивана Алексеевича Порохина, парторга санпоезда, описанного в «Спутниках». Я издали узнала его рослую фигуру в длинной шинели. Мы спросили почти одновременно:
— Вы как тут?
— Я, — сказал он, — сдаю мой поезд. Здесь, на Белорусском вокзале. Уже все почти сдал, четыре вагона осталось. А сейчас иду из ЦК. А вы?
— А я написала повесть о вашем поезде, она будет напечатана в журнале «Знамя».
— Ну да, — сказал Иван Алексеевич, и видно было, что он мне не верит ни на копейку.
— Иван Алексеевич! — сказала я. — Редакция тут, за углом, зайдемте. Они вам рады будут: они о вас прочли, а теперь увидят воочию.
Иван Алексеевич поверил и пошел со мной.
Когда я сказала: «Вот пришел комиссар Данилов», — из всех трех фанерных клетушек, где помещалась редакция, сбежались люди на него поглядеть и пожать ему руку. И жали и глядели они так, что Иван Алексеевич был тронут и всех пригласил на завтра на Белорусский вокзал в штабной вагон ВСП-312 на прощальный обед, где работники поезда в последний раз собирались вместе перед расставаньем.
«Знаменцы» на приглашение откликнулись дружно. И поезд блеснул напоследок! В штабном вагоне были сняты переборки между несколькими купе, поставлен длинный стол и со всей знакомой мне стерильной чистотой и благоприличием был сервирован обед.
Уже мало людей оставалось в поезде: доктор Татьяна Михайловна, да две-три медсестры, да столько же проводников — вот, кажется, и все… Мы поздравили друг друга с тем, что это кончилось, и у всех у нас слезы были на глазах.
Обед был плотный до чрезмерности, но совершенно необычный. Накануне зарезали последнего откормленного кабанчика, а кроме него, у радушных хозяев почти ничего не было. И потому свинина была на первое, и свинина на второе, и на третье, и во всех подаваемых блюдах — а их было много наличествовала свинина, но так как был 1945 год и карточная система, то гости всем блюдам воздали должное и остались очень довольны.