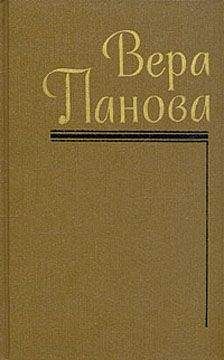— Сергей Иванович, — сказала я. — Вы же слышали предыдущий разговор какое тут может быть пятое, а тем более первое, ведь в романе не остается камня на камне, его надо писать заново, с самого начала.
Я говорила, а Вашенцев как-то странно махал мне рукой. Потом он сказал:
— Все зависит от вас. Если вы управитесь до пятого…
— Да! — сказал Вишневский. — Надо непременно управиться до пятого.
— Зайдите ко мне, Вера Федоровна, — сказал Вашенцев.
И в его крохотном кабинетике мы договорились мгновенно: я напишу сцену дружественной беседы между Листопадом и Уздечкиным (эта беседа написана и находится в главе «Ночью») да еще переделаю название романа. Он был назван первоначально «Люди добрые», Вашенцев посоветовал название «Кружилиха».
— Может быть, «Люди Кружилихи», — усомнилась я.
— Нет, — сказал он. — «Кружилиха» — это будет хорошо.
Мне тоже вдруг показалось, что это будет хорошо, что помимо названия завода это слово передает взвихренность, стремительность нашего переходного бытия. Я согласилась.
— Но Вишневскому не нравится, — сказала я.
— Что вы, — сказал Сергей Иванович. — Если бы не нравилось, разве он так бы говорил с вами?
И я почувствовала, что он прав. И, бодро вернувшись домой, стала сочинять разговор Листопада с Уздечкиным.
В тот же день случилось еще одно приятное. Позвонил А. К. Тарасенков, сказал, что романом заинтересовался «Новый мир» и редактор его К. М. Симонов, которому Тарасенков дал прочитать мою рукопись, хочет со мной повидаться.
Вечером позвонил сам Симонов и прислал за мною машину, и я поехала в «Новый мир».
Первый раз я тогда увидела Симонова, и очень он мне понравился. Понравилось не только то, что он похвалил «Кружилиху» и предложил передать ее «Новому миру». Понравилась и общая его приветливость к людям. И непринужденность в обращении — он сидел в редакции в рубашке с засученными рукавами, без пиджака и без галстука.
Рукопись я, однако, отказалась забрать от «Знамени» — у меня ведь для этого не было никаких оснований.
Через два-три дня я душевно простилась со «Знаменем», причем Вишневский назвал меня «большим и светлым талантом», и поехала в Ленинград.
С нетерпением ждала я одиннадцатого номера «Знамени», где должна была появиться «Кружилиха». Что ж, пришел и этот день.
Пришел и другой, когда «Литературная газета» открыла на своих страницах дискуссию о моем романе.
Сразу ясно было, что задача дискуссии — разгромить «Кружилиху». Большинство участников дискуссии обвиняло меня во всевозможных грехах и промахах. Повторялись все обвинения Вишневского. Много писалось дельного, но были и глупости вроде того, зачем-де Листопад не ходил с женой в театр.
А за этим потянулись разные библиотечные кружки — они готовили читательские конференции, посвященные разгрому «Кружилихи», со всех сторон меня стали звать на эти конференции. Я не шла, полагая, что через какое-то время устроители конференций скажут мне спасибо за то, что я не пошла. Помню, как усердно звала меня заведующая библиотекой завода «Электросила», заманивая тем, что они подготовили очень полезные для меня читательские выступления. Я уже кое-что понимала в этих делах.
В те же дни я получила несколько анонимных писем. Неизвестные доброхоты посылали мне вырезку из «Крокодила» — пародию А. Раскина на «Кружилиху».
Все это закончилось, когда в газете «Культура и жизнь» появилась статья в защиту «Кружилихи». Мой роман не дали уничтожить. Он вышел отдельным изданием в издательстве «Советский писатель». Далее он переиздавался почти так же много, как «Спутники», потом стал выходить в разных странах.
Но за то время, что он находился в центре внимания дискуссии, на нашу семью обрушилось горе.
Моя бедная мамочка после долгой тяжелой болезни скончалась в Комарове 2 января 1948 года. 4 января мы ее похоронили на Шуваловском кладбище, а 6 января Союз обязал меня быть в Москве на обсуждении «Кружилихи».
Обсуждение происходило в том же зале с красивой деревянной резьбой, где я когда-то была на пленуме. Обсуждение заключалось главным образом в том, что выходили участники дискуссии и на словах повторяли то, что они писали в обвинение роману. Лишь два-три человека решились произнести несколько слов в защиту «Кружилихи». Я видела, как бледный В. А. Каверин под аккомпанемент этих грозных речей вышел из зала. Видела сидевшего у стены Вишневского и ждала, не выступит ли он в защиту романа. Но он не выступил. Когда заседание кончилось, я подошла к нему и глупо сказала:
— Что же вы, Всеволод Витальевич, меня не поддержали?
Он ответил очень резонно:
— Я напечатал ваш роман, что больше я мог для него сделать?
Поддержали другие. Борис Горбатов подошел ко мне и сказал:
— Все равно вы написали роман, который будет жить.
А милая моя Туся Разумовская шепнула мне:
— Вера, я тебе предсказываю премию за «Кружилиху», запомни мое предсказание.
Я ей не поверила, но она оказалась права: Совет Министров присудил мне премию.
После московского обсуждения совершенным сюрпризом было обсуждение в Ленинграде.
Я не хотела его, мне надоело слушать обвинения, порою смехотворные, порою несправедливые, к тому же в Ленинграде все писатели были уже как бы своими, а перед своими быть заушаемой особенно горько; но избежать обсуждения в своем коллективе было нельзя, в назначенный вечер я была в Доме писателя на улице Воинова. В зале и гостиных было много народу, своего и постороннего.
Я сидела у круглого стола, а против меня сидел докладчик — критик Павел Петрович Громов, перед ним лежали листки с тезисами, я смотрела на него и думала: «Что-то ты обо мне сейчас скажешь, Павел Петрович?»
Я тогда была еще заражена предрассудком, утверждавшим, будто Москва всем городам задает тон и если она чему-нибудь сказала «нет», то по всей стране скажут то же. Другой предрассудок говорил, что один в поле не воин; и то и другое, как я потом познала на опыте, — совершенная неправда: и мнения у людей свои собственные, и высказывают их люди откровенно, и один в поле очень даже воин, если выходит убежденно и бесстрашно.
Тогда же, ослепленная предрассудками, я даже не очень слушала П. П. Громова, когда он заговорил: так я была уверена, что он дудит в ту же дуду, что московские критики, нападавшие на «Кружилиху». И вдруг, вслушавшись, выяснила, что он говорил вовсе даже и не о «Кружилихе», а о «Василии Теркине» Твардовского.
«Что это значит? — подумала я. — Неужели разговор о „Кружилихе“ отменен, а меня об этом даже не известили?»
А Громов внезапно для меня стал сопоставлять Теркина с моим романом и наговорил в адрес романа множество хороших слов, таких хороших, что мне стало ясно — в Ленинграде обсуждение пойдет доброжелательно.