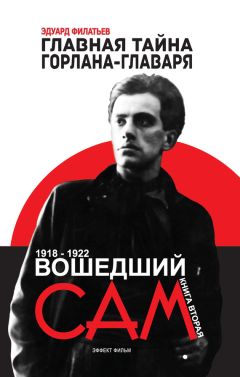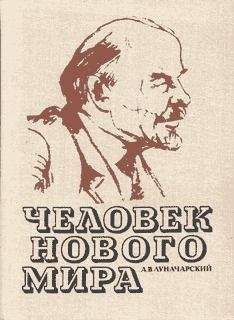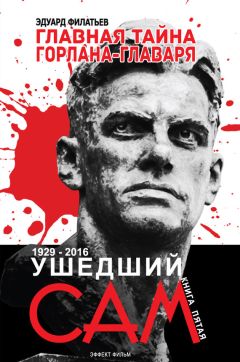Этот же (финальный) эпизод «суда» описал и Матвей Ройзман: дескать, Есенина…
«… долго не отпускали с эстрады. Это и определило приговор двенадцати судей: имажинисты были оправданы.
В заключение четыре имажиниста – основные участники суда: Есенин, Шершеневич, Мариенгоф, Грузинов – встали плечом к плечу и, как всегда это делалось после выступления имажинистов, подняв вверх правые руки и поворачиваясь кругом, прочитали наш межпланетный марш:
Вы, что трубами слав не воспеты,
Чьё имя не кружит толп бурун, —
Смотрите – / Четыре великих поэта
Играют в тарелки лун».
Анатолий Мариенгоф в «Романе без вранья» привёл этот «гимн имажинистов» несколько иначе:
«В эти двадцатые лета
Мир – ты чертовски юн!
И три величайших поэта
Играют в тарелки лун».
Вдохновлённые своей победой на поэтическом суде, имажинисты решили устроить ответный судебный процесс, назвав его «Суд имажинистов над литературой». Литература имелась в виду, конечно же, современная, поэтому главными подсудимыми должны были стать футуристы во главе с Владимиром Маяковским.
Лидия Николаевна Сейфуллина, ставшая впоследствии известной советской писательницей, потом вспоминала:
«В столице обширного и богатого государства не хватало хлеба и топлива. Но в голодной и холодной Москве советские люди жили молодо и бодро.
Мы, работники просвещения, были вызваны в столицу из разных мест огромной республики для расширения собственного нашего образования. Нас вселили в старинный и ветхий деревянный домишко. Это было «Убежище для благородных вдов и сирот», организованное неизвестным нам Гейзелем.
«Благородных» разместили наверху, а нам отвели нижний, очень холодный этаж. Топили по ночам, разбирая для этого гнилые деревянные заборы Усачёвки…
Как-то, в студёное утро – числа и месяца не помню – увидели мы на уцелевшем от наших рук заборе афишу. Она сообщала, что «сегодня в Политехническом музее состоится диспут футуристов с имажинистами. От имажинистов выступит Сергей Есенин, от футуристов – Владимир Маяковский. Председательствует Валерий Брюсов»».
И молодые работницы народного просвещения, конечно же, без всяких раздумий отправились в Политехнический музей.
Матвей Ройзман:
«Не только аудитория была набита до отказа, но перед входом стояла толпа жаждущих попасть на вечер, и мы – весь „Орден имажинистов“ – с помощью конной милиции с трудом пробились в здание».
Первым обвинителем литературы выступил поэт-имажинист Иван Грузинов, который (по словам того же Матвея Ройзмана)…
«… говорил с увлечением, громко, чеканно, обвиняя сперва символистов, потом акмеистов и особенно футуристов в том, что они пишут плохие стихи.
– Для доказательства я процитирую их вирши!»
И Грузинов процитировал.
После него встал со стула второй обвинитель, поэт-имажинист Вадим Шершеневич. У него в 1918 году вышла поэма о любви «Крематорий», написанная как бы в ответ на поэму «Облако в штанах». Там говорилось: «Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего», что явно повторяло строку из стихотворения Маяковского «Кофта фата»: «Я сошью себе чёрные штаны из бархата голоса моего». Одни называли это заимствованием, другие – плагиатом, но были и такие, кто считал подобный повтор самой обыкновенной кражей. Правда, голос у Шершеневича был намного «бархатней», чем у Маяковского.
Как только Шершеневич приготовился говорить, раздался знакомый всем голос:
– Маяковский просит слова!
Ивану Грузинову появление Маяковского запомнилось так:
«После моей речи откуда-то, чуть ли не с галёрки, неожиданно появился Владимир Маяковский. Маяковский взял на себя роль защитника русской литературы. Был весел, добродушен».
Матвей Ройзман:
«Владимир Владимирович вышел на эстраду, положил руки на спинку стула и стал говорить, обращаясь к аудитории».
Лидия Сейфуллина:
«Он появился не на сцене, а в зале, в проходе между последними рядами, вошёл внезапно и совершенно бесшумно. Но таково свойство Маяковского, что появление его, где бы то ни было, не могло остаться незаметным. В рядах публики, переполнившей зал, началось какое-то смутное движение, смутный взволнованный шум. Почувствовалось, что в зал вошёл человек большой, для всех интересный и важный.
Задвигались, начали оглядываться люди, сидящие в первых рядах. Оглянулась и я и увидела лицо, которое забыть нельзя. Можно много подобрать прилагательных для описания лица Владимира Владимировича: волевое, мужественно красивое, умное, вдохновенное. Все эти слова подходят, не льстят и не лгут, когда говоришь о Маяковском. Но они не выражают основного, что делало лицо поэта незабываемым. В нём жила та внутренняя сила, которая редко встречается во внешнем проявлении. Неоспоримая сила таланта, его душа.
Маяковский был одет в неприметную тёплую серую куртку до колен, в руках держал обыкновенную, привычную для наших глаз в то время барашковую шапку, стоял неподвижно…
Шумок в рядах присутствующих вырос в шум. Его пронзил чей-то юношеский голос, искренний и звонкий:
– Маяковский в зале! Хотим Маяковского!
И сразу – целый хор голосов, нестройный, но убедительный и горячий:
– Маяковского – на сцену! Маяковского хотим слушать! Маяковский! Маяковский! На сцену!
Сильный голос Маяковского сразу покрыл и прекратил разноголосый шум. Он быстро прошёл по проходу на сцену и заговорил ещё на ходу:
– Товарищи! Я сейчас из камеры народного судьи. Разбиралось необычное дело: дети убили свою мать.
В рядах началось смущённое перешёптывание. Но Маяковский стоял уже на сцене, высокий, всегда «двадцатидвухлетний», видный всем в самом последнем ряду, всем слышный, и продолжал:
– В своё оправдание убийцы сказали, что мамаша была большая дрянь! Распутная и продажная. Но дело в том, что мать была всё-таки поэзия, а детки её – имажинисты.
В зале раздался облегчённый смех. Имажинисты, сидевшие на сцене, буквально двинулись к Маяковскому. Поэт слегка отмахнулся от них рукой и стал пародировать стихи имажинистов. Публика хохотала.
Валерий Брюсов несколько раз принимался звонить своим председательским колокольчиком, потом бросил его на стол и сел, скрестив на груди руки».