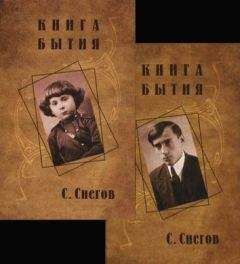«Никудышные вы воспитатели! Сына у меня отняли — и что? Теперь сам буду растить настоящего человека». И посмотрел бы ты на него — чуть ли не в себя вдавился, глаз не поднимет, слова не вымолвит. А мама — она мама и есть: разошлась, как и раньше бывало.
С каждым его словом ко мне возвращалось сознание — но оно было новым и странным. Мир снова менялся — он оставался, но терял устойчивость. Все плыло и покачивалось. Ошеломление прошло, наступило опьянение — впервые в жизни.
Я с трудом выговорил:
— Зачем ты так на Осипа Соломоновича? Он хороший.
— Хороший! — презрительно покривился отец. — Никогда ни один Иосиф или Соломон не были способны ни на что на хорошее. Ловкачи и дельцы — да. Энергии и предприимчивости — навалом. И ничего сверх! Не говорю о физической работе — но хоть бы один художник или поэт… Скрипачей — отряды, но почему? Исполняют (и хорошо исполняют!) то, что сотворили другие. Настоящего, коренного — нет. Было когда-то у них государство — в простенькой войне навек отдали. Две тысячи лет валандаются по чужим странам — и везде все расшатывают, все портят. Почему они к нам в гражданскую пристали? Задача была одна — разрушать, поджигать, ломать. Вполне по ним, да и нам на пользу — приходилось мириться. Я так и влепил маменькиному Иосифу: «Испоганили мне сына. Трудно, очень трудно станет возвращать его в люди!»
— Так прямо и сказал?
— А чего мне стесняться? Посмотрел бы ты на него! Бледный, голову опустил. Трус! Все они трусы — Иосифы с Соломонами.
Я перестал понимать отца — и не только потому, что опьянение продолжало сгущаться. Сами его слова становились все непонятней, все невозможней. Мама не раз говорила, что отчим — лучший человек в мире, она счастлива, что встретила такого друга. Раньше подобных людей называли святыми, она и вправду убеждена, что он — святой.
Я не знал, был ли отчим праведником и единственным в мире, но что он — лучший из всех, кто меня окружал, понимал твердо. Я любил его — и любил больше мамы, хотя ни разу не назвал по-родному, на «ты», только Осипом Соломоновичем. Он понимал меня, он был добр, он ласково говорил со мной, бережно гладил по голове, никогда не распекал за шум, за поднятую пыль, за беспорядок, за бешеные игры с собакой. А если порой ругал, то лишь когда я, виноватый, сам готов был не то что ругать — почти проклинать себя. И ни разу, ни разу за много лет нашей жизни он не ударил меня — тогда как тяжесть маминых рук хорошо знали все части моего тела.
Было нестерпимо слышать, как отец честит моего отчима. Но я не умел говорить так же зло и категорично, а простые, без злобы, слова не годились. Я только недобро сказал:
— Ты считаешь, меня испоганили?
— А ты сомневаешься? — удивился отец. — Ну, не испоганили — это, пожалуй, чересчур. Но испортили порядочно.
— В чем именно испортили?
— Во всем, Сережа. Надо смотреть правде в глаза. Я тебе родной, а не придуманный отец. И характер у тебя не сахар, и поведение отвратительное, и товарищи подозрительные, ты лентяй и пустозвон. Всего не перечислишь. Но не отчаивайся, время еще не ушло. Будем возвращаться в человеки.
— Будешь возвращать, а не будем возвращаться, — уточнил я. — Как собираешься это делать?
Он не уловил моей нараставшей пьяной враждебности. Деловито вылил из бутылки оставшуюся водку, выпил не закусывая, и стал рисовать мое будущее — железные нотки позвякивали в его спокойном голосе.
— Прежде всего школа. Об аккуратном посещении не говорю, это само собой… После школы — час-полтора усердных домашних занятий. Теперь кино. Будешь посещать только те картины, которые я сам предварительно просмотрю. И не больше чем два раза в неделю. Книги для внеклассного чтения буду отбирать сам. Те, которые возьмешь без меня, проверю. О товарищах — босячество и разнузданность прекратим. О ком скажу — его не надо, с тем прекращай дружить. И о девочках: на время забудь, их пора еще не пришла. Последнее — стихи. Хулиганство и бездельничанье — не тема, литературу такими стишками только портить, а не обогащать. Вот такая программа. Нравится?
Я изо всех сил старался, чтобы мой голос звучал ровно.
— Не имеет значения — нравится, не нравится. Скажи вот что, папа: с кем ты будешь ее выполнять?
— Как с кем? С тобой, конечно. Она составляется для тебя.
— Вот тут ты ошибаешься. Со мной не получится. Я к тебе в Ростов не поеду.
До него не сразу дошли мои слова. Он глядел на меня во все глаза — пока они еще блестели. Только лицо посуровело.
— Как это — не поедешь? А что Киле нарассказал? И мама согласна — вчера заплакала, но обещала препон не чинить. У нее слово твердое, сколько раз на себе проверял.
— У мамы препон не будет, у меня появились.
Теперь и глаза его изменились. Он глядел зло и беспощадно — такой взгляд у него был при рассказе об арестах по классовому признаку.
— Значит, передумал? Не по характеру нормальная жизнь?
— Передумал, папа. Не по характеру. Ты сам объяснил, что характер у меня — не сахар.
Он приподнялся. Я тоже вскочил. Пришлось ухватиться рукой за стол — ноги не держали.
— А тебе не пришло в голову, сынок, что я могу применить силу? — медленно сказал он. — Я приказал Киле бежать за билетами. Скоро она вернется — и я схвачу тебя и потащу на вокзал. Все же сын — имею права.
Я перестал сдерживать ярость. Я кричал и махал руками перед его лицом.
— Нет у тебя прав! Их отобрали три года назад — на суде. А применишь силу — буду драться. С тобой, и с Килей, и с Маней! Со мной не справишься так просто, как с теми, беззащитными, кого хватал по классовому признаку!
Он страшно побледнел. Глаза его сверкали.
— Не сметь вспоминать мое прошлое! — сказал он глухо. — Приказываю, слышишь: не сметь!
— Буду! — орал я в исступлении. — Плевал я на твои приказы! Все припомню, все! Как обижал мою маму! Как хотел убить ее на моих глазах! Как подписывал списки на расстрелы сотен людей, не знающих за собой вины! Убийца, треклятый убийца! Меня не убьешь, прошло твое время! Мелким эксплуататором стать хочешь? От всего, что было в тебе идейного, отрекаешься, горе-социалист! Не боюсь тебя, слышишь, не боюсь!
Мне показалось: еще чуть-чуть — и он бросится на меня. Но я не мог остановиться и кричал все яростней. Всю жизнь потом я помнил то свое состояние. Удивительно: во мне немыслимо переплелись два противоположных чувства — бешенство, не знающее преград, и жалкий страх, терзающий каждую клетку. Я клокотал, вырывался из себя, был готов к драке — бесстрашно и безрассудно. Кричал: «Я тебя не боюсь!», — и смертно боялся.
Я знал — мне говорили — о физической силе отца, о его неукротимости, о способности в любой момент, по любому поводу кинуться в драку, о неумении простить даже самую маленькую обиду, самое крохотное оскорбление. В далеком «впоследствии», в лагере, среди простых уголовников и воров в законе, я услышал грозную и уважительную оценку определенного типа людей — «настоящий духарик» и не раз думал, что если и знал настоящего духарика, то им был, по всему, мой отец.