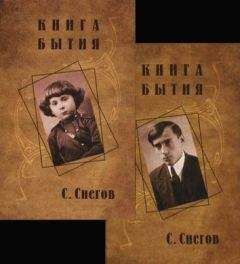Мне показалось: еще чуть-чуть — и он бросится на меня. Но я не мог остановиться и кричал все яростней. Всю жизнь потом я помнил то свое состояние. Удивительно: во мне немыслимо переплелись два противоположных чувства — бешенство, не знающее преград, и жалкий страх, терзающий каждую клетку. Я клокотал, вырывался из себя, был готов к драке — бесстрашно и безрассудно. Кричал: «Я тебя не боюсь!», — и смертно боялся.
Я знал — мне говорили — о физической силе отца, о его неукротимости, о способности в любой момент, по любому поводу кинуться в драку, о неумении простить даже самую маленькую обиду, самое крохотное оскорбление. В далеком «впоследствии», в лагере, среди простых уголовников и воров в законе, я услышал грозную и уважительную оценку определенного типа людей — «настоящий духарик» и не раз думал, что если и знал настоящего духарика, то им был, по всему, мой отец.
Но до лагеря и воров в законе вперемешку с робкими интеллигентными фрайерами было еще очень далеко. Я стоял перед грозно неподвижным отцом (он все-таки сдержался) и дико орал — от ярости, заставлявшей надрываться в крике, и ужаса, не дававшего замолчать. Ибо чувствовал: как только я перестану вопить и ему не нужно будет меня слушать, наступит развязка. Он расправится со мной — он всегда расправлялся со своими противниками.
И развязка наступила. Мне не хватило голоса — не только на крик, но и на шепот.
Отец, не шелохнувшись, холодно произнес:
— Уже закончил? Больше ничего не добавишь?
Тогда я схватил скатерть и рванул ее на себя. На пол полетели тарелки, бутылка, ножи и вилки, два толстых граненых стакана. Звон разбитого стекла наполнил обе комнаты. Из кухни вбежала насмерть перепуганная тетя Маня. Я с ужасом смотрел на то, что сотворил. Вокруг меня валялись осколки посуды и ошметки закусок. Отец смотрел не на пол, а на меня — тяжело, испытующе. Он и не собирался расправляться со мной.
— Скандалить и пить ты умеешь, в этом я убедился, — сказал он бесстрастно. — Что до остального — «будем посмотреть». — Он иронически подчеркнул ходячие строчки Демьяна Бедного, круто повернулся и, брезгливо обойдя разор на полу, вышел из комнаты. Тете Маня выбежала за ним, но через минуту вернулась.
— Сережа, что же ты наделал! — воскликнула она со слезами. — Что теперь будет, ты подумал?
— Хочу домой, — сказал я с трудом. Водка все больше кружила мне голову. — Проводи меня, тетя!
Она вывела меня на улицу.
— Не сердись, Сережа, ты доберешься, улица у нас тихая. А я пойду к Саше. У него было такое лицо… Боюсь, как бы чего не наделал!
Я шел и шатался, один раз даже упал. Мимо прошли две женщины, одна, я услышал, негодующе сказала другой: «Молодежь пошла! Нализался, скотина, как старый алкаш!» Они и не подумали меня поднять — я с трудом встал сам. Не знаю, как я добрался. Подходя к дому, отчаянно старался держаться ровно. Понимал: позор, если соседи увидят меня пьяным. Такого унижения мне не перенести. Дверь открыла мама — и так вскрикнула, увидев меня, что в коридор выбежал перепуганный отчим. Они схватили меня под мышки и потащили в комнату. Слишком быстро — меня еще сильней замутило, и все выпитое и съеденное бурно исторглось наружу.
Мама побежала за ведром, наклонила мою голову, чтобы стало легче, потом вытерла мокрым полотенцем лицо, стащила облеванную куртку. Она знала одно лекарство для меня — постель. Я лежал с полотенцем на лбу. Тошнота постепенно смирялась.
Мама села рядом. Она долго смотрела на меня, потом спросила:
— Что у вас произошло? Почему ты так безобразно напился? Как папа мог это допустить?
Я с трудом выговорил:
— Он заставил меня выпить. Я побоялся отказываться.
— Что было потом? Как тебя отпустили одного в таком состоянии?
Я постарался говорить понятней.
— Я поссорился с отцом. Я его оскорбил.
— Оскорбил? Отца оскорбил? Совсем опьянел, совсем! Как оскорбил?
— Обругал. Наговорил нехорошего. Не знаю, как он вытерпел. Думал, станет меня бить — нет, только сам ушел из комнаты.
Мама с минуту раздумывала.
— Значит, поругались? Саша всегда был резок, у тебя тоже не заржавеет на острое словечко. Два сапога — пара. И я дура — отпустила тебя одного на такое объяснение. Думала, мы с Сашей обо всем договорились — значит, кончено! О твоем характере позабыла… Ничего, завтра пойдем к Мане, ты попросишь прощения. Саша долго зла держать не будет — отец все же.
Разъяренный, я вскочил на кровати. Меня снова охватило бешенство.
— Он больше мне не отец! А встретимся, такого наговорю, что сразу меня убьет, если не трус.
Мама испугалась.
— Хорошо, хорошо, успокойся, пожалуйста! Все будет по-твоему, не бесись. Да ложись же, ложись, чего вскочил! — Она повернулась к отчиму, отчужденно сидевшему в стороне. — Осип, что думаешь? Мне идти к Саше — или ждать, когда он придет?
Отчим ответил очень резко — я никогда не слышал у него такого тона:
— Мое мнение ты давно знаешь. Надеюсь, твой Козерюк больше не придет, а тебе скажу одно: смири наконец свою гордыню! Это преступление — отдавать сына. Сама себе не простишь. Сереже жить, пойми это, а мы только доживаем свое.
Она устало поднялась.
— Ладно, будь по-вашему, никуда не пойду. — Она ласково погладила меня по голове. — А ты, Сережа, засни. Хорошенько поспишь — все поправится.
Я спал нехорошо: тошнота подкатывала к горлу, я стонал, очень болел живот. Первое мое опьянение больше смахивало на отравление.
В очередной раз проснувшись, я увидел через открытую дверь, что в парадном углу перед иконами теплилась лампада. Много лет, я уже говорил об этом, она была бессветна, а сейчас неровный огонек призрачно озарял и добрую женщину с ребенком, и молодого, красивого, вдумчивого Христа, и другие лики — не такие ясные, не так выписанные, не так украшенные.
А на полу, на коленях, молилась, часто творя крестные знамения, мама — ее тихий голос едва доносился до меня, в нем слышались слезы.
В ту ночь вся невозможность увиденного (мама никогда не становилась на колени перед иконами, никогда не плакала перед ними, никогда не била поклоны) до меня так и не дошла: я и без того был до одурения переполнен новыми ощущениями. По-настоящему я понял его смысл много позже. А тогда лишь повернулся на другой бок и, снова засыпая, услышал, как мама, тихонько, чтобы не разбудить меня, возвращается к своей кровати.
Утром я просыпался рывками — приподнимал голову, сонно осматривался, снова падал на подушку. Мама с отчимом, тихо разговаривая, что-то делали в соседней комнате. Потом они оделись и ушли. Я спал, наверное, до полудня. Жеффик, конечно, не допустил бы, чтобы его хозяин валялся в кровати, когда за окном широко сияет солнце, — но Жеффика уже не было.