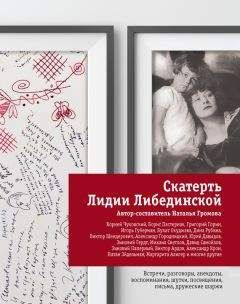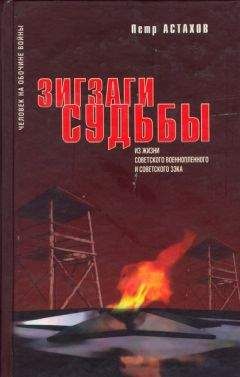— У вас, Л.Б., ошибочка вышла. Вы пишите, что народник Желябов похож на Евтушенко. Может, все-таки наоборот?
— Да, хронологически вы правы.
— Кстати, наш общий друг Эмиль Кроткий как-то сказал, что Евтушенко, как губная помада, на устах у всех женщин… И действительно, многие поклонницы считают его гениальным поэтом.
— Не будем торопиться. Я думаю, что гений определяется не раньше, чем в день своего столетия.
Яков Костюковский с дочерью Инной. На заднем плане — Нина, правнучка Л. Б. * * *
— Слышали, Л.Б.? Бывший комсомольский вождь Николай Михайлов назначен министром культуры. Предполагается, что это будет выдающийся министр.
— Любого человека можно назначить министром. Но нельзя его назначить выдающимся министром. Так же, как никого нельзя назначить выдающимся главным редактором, выдающимся главным попом и даже выдающимся главным раввином…
* * *
— У вас в «Зеленой лампе» есть несколько выразительных женских портретов.
— Спасибо, конечно, но в этом деле, Яша, вы для меня не авторитет… Что вы понимаете в женщинах? За всю жизнь вы даже не разу не переженились…
* * *
— Как вы, Л.Б., относитесь к ненормативной лексике?
— Терпимо. Особенно, если это художественно оправданно. И потом у меня зять известный матерщинник… И вообще я всегда считала, что мат существует для смазки слов…
* * *
— Л.Б., чем вы так возмущены?
— Какой-то журналист из «Литературной России» спросил у меня, почему на похоронах Светлова не было его друга Михаила Голодного? Пришлось объяснить ему: по уважительной причине. Михаил Голодный умер за 15 лет до Светлова…
* * *
— А знаете ли вы, что вместе с вашим другом Семеном Гудзенко я в 1939 году поступал в ИФЛИ?
— И потом вы встречались?
— Конечно. После ранения Сарик вернулся с фронта и был у меня в «Комсомольской правде». И потом мы часто пресекались… Вот кто родился поэтом!
— Согласна. С одним уточнением: поэтами рождаются, но не всегда становятся!
* * *
— Ну и как вам Хакасия?
— Я была только в Абакане. Жуткая жара и жуткие запахи. И я вспомнила мадам де Сталь.
— Странные ассоциации.
— Почему же? Подражая ей, я сформулировала: «Каждый народ имеет сортиры, которые заслуживает».
* * *
— Вы звонили, Л.Б.?
— Звонила. Вы не против выступить со мной в библиотеке имени Светлова? Есть два варианта ответа — «Да» и «Нет»: да, я не против, и нет, я не против.
* * *
— Попали на пьесу Сафронова?
— Не попала, а попалась…
* * *
— Л.Б., вы так и сыплете афоризмами собственного изготовления.
— Например?
— «Троллейбус родился от брака трамвая и автобуса». Или: «Культуру не надо охранять, ее надо хранить…». За вами стоит ходить и записывать.
— На ваши неумеренные комплименты отвечу вам тоже цитатой. Не из себя. «Но то, что хорошо у Шоу, то у других нехоро-шоу…»
Они встретились с Мариной Цветаевой в первый и последний раз за несколько дней до начала войны. Лидии было тогда неполных двадцать лет, она только что сдала экзамены в Историко-архивный институт, хотя уже была мамой полуторагодовалой дочки. Утром 18 июня 1941 года ей позвонил Алексей Елисеевич Крученых. Он предложил поехать за город в Кусково, где у него была крохотная комнатка. Выяснилось, что с ними поедет и Марина Цветаева с сыном. Стихи молодой Цветаевой Л. Б. знала с давних лет и еще ребенком гуляла во дворике «Старого Пимена» — «у Иловайских», потому что жила она с родителями неподалеку — в Воротниковском переулке.
Ирма Кудрова
Об этом солнечном дне, проведенном в подмосковном Кускове, в Шереметевском дворце и на озере, где Цветаева решительно сама взяла в руки весла, об этом дне Лидия Борисовна много раз и рассказывала и писала. К нашему счастью, они сфотографировались в тот день вчетвером у уличного фотографа. В надписи на обороте снимка Цветаева отметила, что то был как раз день двухлетия ее возвращения на родину.
Узнав, что Лидия пишет стихи, Марина Ивановна попросила прочесть что-нибудь. Л. Б. прочла одно стихотворение, и Цветаева сходу сумела помочь «довести» стих до «кондиции». Когда они вернулись в Москву, Л. Б. проводила мать с сыном до дому. При расставании Цветаева вдруг предложила: «Хотите, буду давать вам уроки французского языка?» И записала на листочке свой номер телефона. Они договорились созвониться в ближайший понедельник.
Но в воскресенье началась война.
Много раз я слышала от Л.Б.: «Если бы я была рядом с ней в Елабуге, трагедии бы не случилось… Если бы я поехала вместе с ними, она бы осталась жива…» Такое повторяют в своих воспоминаниях многие, но как раз в случае с Л. Б. мне в это верится. Очевидно было, что жизнелюбивая, мягкая и энергичная одновременно, Лидия понравилась Марине Ивановне. Потому и последовало предложение уроков французского. А кроме того, человек, который писал стихи, в глазах Цветаевой уже был своим, ему можно было доверять. В последние дни в Елабуге ей так не хватало рядом по-настоящему сердечного и преданного ей человека…
Я узнала адрес и телефон Л. Б. в семидесятых годах, когда энергично разыскивала всех, кто мог бы мне рассказать о Цветаевой. Л. Б. жила в Замоскворечье в Лаврушинском переулке, в «писательском» доме. В первый же день встречи мы отправились с ней искать дом, который молодая Цветаева (только что родившая тогда дочку Алю) вместе с мужем купили для себя. Адрес нелегко было установить, они жили там совсем недолго, место дома мы знали приблизительно. Мы знали, что он находился в том же Замоскворечье, где-то на скрещении Малого Екатерининского и Казачьего переулков и должен был быть похожим на тот, в Трехпрудном переулке, где выросла Марина. И мы нашли нечто подходящее: деревянный, одноэтажный, с мансардой и славным двориком, заросшим травой.
Прошло немало лет. И вот мы неожиданно встретились в Коктебеле снова — и тут уж по-настоящему подружились. В последующие годы непременно виделись раза два-три в год, и все чаще, по предложению Л.Б., я останавливалась в ее уютной лаврушинской квартире.
Нелегко встретить более сердечного человека, чем была Л. Б. Пока жива, буду вспоминать, как поднималось у меня настроение всякий раз, когда после большего или меньшего перерыва я снова приезжала в Москву, стоя у парадной двери, звонила по домофону, потом подымалась на второй этаж. Дверь уже была открыта настежь, и меня встречал неизменный возглас: «Ну, наконец-то!» Жить хотелось, едва перешагивал порог этого дома. Л. Б. поднимала настроение безо всяких усилий и сантиментов, просто собой, всегда полной жизни и неторопливо деятельной. Не помню, чтобы она жаловалась на болезни или житейские неприятности (которые, естественно, и ее настигали); рядом с ней мои собственные беды и огорчения на глазах превращались почти что в пустяки. Однажды я прожила у нее — страшно сказать! — почти три месяца; по семейным обстоятельствам я не могла тогда жить в своей квартире в Питере. А как раз в это время у меня шла горячая работа над переизданием книги о годах эмиграции Цветаевой. Л. Б. отвела для моих расклеек самую большую комнату с огромным пиршественным столом и кротко терпела неизбежный беспорядок: разложенные на полу листки корректуры, обрезки бумаги… Она усердно вытаскивала меня с собой на концерты и выставки, разные встречи в музеях и Домах творческих работников, так что я ей сказала, прощаясь: «Я к вам приехала почти что с трагедией, а вы мне превратили ее в небольшое и скоротечное недоразумение…»