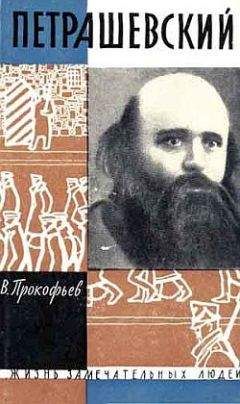Говорят, Бакунин распускает о Петрашевском вздорные слухи, будто бы тот ведет распутный образ жизни в компании трактирной публики, вольноотпущенных лакеев, играет напропалую в карты и не оплачивает проигрышей.
Ему ли, Бакунину, говорить о долгах? Он из них, видимо, до конца дней своих не вылезет, да, судя по кое-каким жалобам, и вылезать не собирается.
Петрашевский не может больше оставаться в этом «музыкальном собрании»…
Бакунин и не заметил Петрашевского. Наконец-то ему представился случай «сыграть роль».
Неклюдов собирается уклониться от дуэли. Сегодня к нему на квартиру несколько раз наведывались друзья Беклемишева, но всякий раз заставали только слуг.
Бакунин, несмотря на рост, Грузность, легко пробирается между кресел, он и на хорах и у колоннады. Кого-то хватает за руку, к кому-то наклоняется и что-то шепчет.
Вот уже вокруг него образовался кружок. Доносятся возбужденные голоса.
— Этак только поощряться будут всякие безответственные лица…
— Да, да, врываться в чужой дом и набрасываться на хозяев…
— Они должны стреляться…
Но Бакунину этого мало. Дуэль дуэлью, а Неклюдов куда-то скрылся. Говорят, что Венцель выдал ему подорожную. Если это так, то Неклюдова уже не догнать. Тогда в Петербурге его догонит позорная клевета.
Бакунин предлагает в случае чего разослать письма за подлинными подписями, что возмущенные отказом Неклюдова драться на дуэли нижеподписавшиеся публично высекли нарушителя кодекса дворянской чести.
Пятнадцать швабр, с восторгом готовы поставить свои подписи.
На следующий день Петрашевский опять столкнулся с Бакуниным. Теперь он уже не мог уйти, но и крупно поговорить с интриганом тоже невозможно. Они в Иркутском институте, хозяева — престарелые дамы. Варвара Петровна Быкова одинаково недоброжелательно смотрит и на Петрашевского и на Бакунина. Для нее они «преобразователи», о которых и говорить противно. Но они её гости. Их право — «врать всякую чушь», к тому же она не может отказать им в светском воспитании.
Быкова пытается отвлечь гостей от скользкой темы. Но разговор вновь и вновь возвращается к злосчастной истории. Бакунин будто забыл о своем вчерашнем адвокатстве в пользу Беклемишева. Его бас гремит в гостиной:
— Посадить бы их в темную комнату да заставить стреляться через стол, а потом разом внести свечи и, наверное, увидели бы такую картину: пистолеты на столе, а они оба под столом!
Какой цинизм! А отвечать нечего. Петрашевский вовсе не намерен вступаться за попранную честь Неклюдова. В конце концов тот такой же искатель чинов, как и Беклемишев, и если бы не стечение обстоятельств, то был бы и он в «золотой компании». Все эти толки, это возбуждение только еще. раз свидетельствуют о настроениях иркутского общества. Конечно, не того «общества», к которому льнут Беклемишевы и компания, а общества людей интеллигентных — ссыльнопоселенцев, части местного купечества.
Вчера какой-то негодяй и взяточник, но доверенное лицо графа, — Петрашевский не знает его фамилии, — витийствовал о том, что-де Муравьева ненавидят апологеты старого рупертовского режима. Те купчишки-эксплуататоры и местные чиновники иркутяне, которые держали и самого генерал-губернатора и всю Восточную Сибирь в своих руках, хапали баснословные суммы, раскрадывали казну.
Ну, а новое начальство, новый генерал-губернатор? Говорят, что он не берет взяток. Очень может быть, очень. Во всяком случае, его никто не поймал за руку. А вот Беклемишев берет.
Муравьев просто самодур, и его разменная монета — люди. Ради честолюбия, славы да из барской прихоти он и либерал, приближающий к себе бывших «возмутителей», и сатрап, подписывающий ведомости, в которых итог — десятки тысяч разоренных и сотни мучительно умерших, несчастных переселенцев на Амур. Скорее бы кукушка прокуковала двенадцать. Он откланяется.
Львов тоже чувствует себя плохо в институте благородных девиц и только делает вид, что игра все того же и неизменного Кукеля поглотила его целиком.
16 апреля 1859 года. Почти десять лет минуло с того памятного и несчастного дня, когда стены Петропавловской крепости сузили его мир до нескольких каменных аршин. Вот уже которое утро подряд он просыпается с этим чувством последнего свободного столичного дня.
Львов лежит с закрытыми глазами, но Петрашевский хорошо видит, как приоткрываются его веки.
Десять лет — это почти четверть прожитых годов.
Прожитых!
А разве эти десять он жил? Конечно, жил. Но опустошенно и пока бесплодно.
Странно складывалась жизнь. Он все время стремился к тому, чтобы переделать ее, она делала все, чтобы внушить ему, что она незыблема.
Кто же победил?
Пока никто!
Наверное, такие люди, как Бакунин, пришли бы в восторг от подобного вывода.
Никто!..
И это в борьбе с самой жизнью!
Нет, он боролся не с жизнью, не со стечением обстоятельств. Он боролся за жизнь в том ее совершенном понимании, которое открылось ему давным-давно.
— Ты спишь, Михаил? Львов полусидит в подушках.
— Я знаю, тебе тоже пришло в голову, что минуло уже десять лет…
Петрашевский не отвечает.
Прошло еще с полчаса, и снова Львов привстал на кровати.
Он вряд ли нуждался в слушателях, тем более в таком, как Петрашевский, ведь Михаилу Васильевичу известны все обстоятельства той «ошибки». Но он больше не мог молчать:
— Бенедиктов, мой сожитель, встретил меня словами: «Сегодня ночью ошибочно вместо вас взят капитан Львов, Петр Семенович». Он советовал мне надеть мундир и ехать прямо к генералу Ростовцеву, рассказать об ошибке и тем смягчить наказание. А я, дурак, не послушал доброго совета. И ждал. А чего ждал? Наверное, мессии в лице какого-либо доброжелателя или богатого дядюшки. И он явился, явился в то же утро с полуторатысячами рублей в кармане и советом убраться как можно скорее из Петербурга, а затем и из России. Я его поцеловал и отказался. И снова ошибка — нужно было уезжать, бежать, бежать…
Сильный стук в дверь прервал Львова на полуслове.
— Спите?..
Петрашевский никак не найдет очки, чтобы разглядеть незваного посетителя. Да и знаком ли он с ним?
— Неклюдов не уехал, а стрелялся!.. Говорят, убит или уже. отходит!..
— Ну и дурак! — У Львова это вырвалось непроизвольно.
Дверь захлопнулась.
Иркутск бурлил, как бурлит Ангара, когда солнце сбрасывает с нее ледяные оковы.
Сторож казенной палаты Пежемский, живущий в караульном доме при винных магазинах, видел пролетку, четырех господ недалеко от заимки Кукуева и слышал выстрел. Да, да, пистолетный выстрел, и причем один.