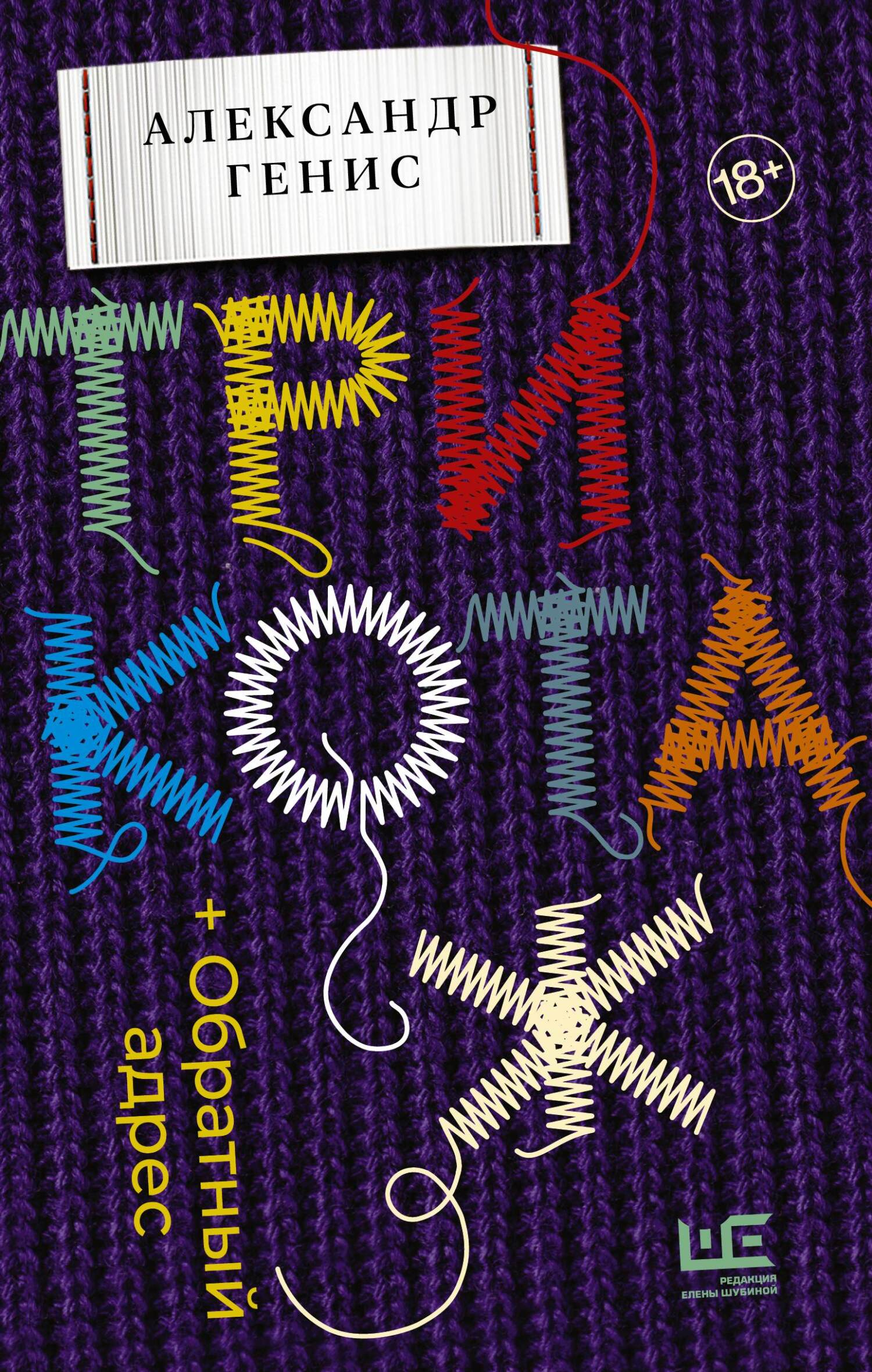всех стран и народов. Сэлинджер звал художников рисовать на оберточной бумаге, Бродский писал “стишки”, мы, подражая старшим, – “байки”, опасаясь, что нас заподозрят в благих, а не веселых намерениях. Однажды, прочесывая дальние окрестности Бродвея, где нищие молодежные театры делили улицы с ремонтными мастерскими и старыми, списанными с 42-й на дальний запад проститутками, мы укрылись от ветра с Гудзона в непарадном подъезде и, выпив, вышли не в ту дверь, в которую вошли. За порогом открылся бешено освещенный двор. Посреди него три косматые старухи напевали и приплясывали у ведра с синим пламенем. От ужаса мы, бряцая бутылками в пластмассовом мешке, бросились обратно, но нас остановили грянувшие из тьмы аплодисменты.
– Ради бога, – спросил я у схватившего нас охранника, – что это?
– “Макбет”, – злобно прошипел он и выставил нас на ветер.
2
Панорама”, как и следовало из ее названия, расширяла географические представления об Америке. Нас стали приглашать читатели, и мы освоили жанр публичного выступления, в котором так блистал Довлатов. Если Бродский, игнорируя вопросы, честно читал стихи до тех пор, пока под галстуком не расплывалось пятно от пота, то Довлатов предпочитал интриговать аудиторию, зажигаясь от нее.
– Что у меня в кулаке? – спрашивал он.
– Что? – подыгрывала аудитория.
– Мое собрание сочинений на фотопленке, которое сочувствующая нонконформизму француженка вывезла из Ленинграда не скажу где.
Зрители млели, но только раз. Когда Сергей со своим кулаком вернулся в Торонто, выяснилось, что даже в крупных городах Нового Света наших хватает лишь на один зал. Кроме того, это одни и те же люди, которых я, следуя тем же путем, узнал так близко, как если бы возил их с собой.
Первый ряд заполняет соль земли: интеллигентные старушки, которых я побаивался, оконфузившись в гостях у одной из них. Заметив книжный шкаф со сказками, я вежливо ляпнул:
– Волшебный вымысел, должно быть, украшает старость.
– Не знаю, – сухо ответила пожилая дама, – я и в юности увлекалась фольклором, изучая поэтику сказки под руководством Проппа.
Остальные ряды занимает средний класс эмиграции. Добродушные и смешливые, они терпят короткие стихи и такую же прозу, любят слушать про евреев, им нравится, когда ругают русских большевиков и американских демократов. Еще больше их радует пора безответных вопросов, которые задают, чтобы себя показать, а других посадить в лужу. Кульминация наступает с появлением городского сумасшедшего.
Когда Комар и Меламид стали работать втроем, они объяснили, что взяли в соавторы слона ради непредсказуемости штриха, которая больше всего ценится в абстракционизме. Вот такой слон приходит на каждую встречу с читателями.
– Вы знаете, как вязать снопы? – спросили меня однажды.
– Нет.
– Как же вы можете писать про деревню?
– Я не пишу про деревню.
– А могли б, если бы знали, как вязать снопы.
Когда открылась дверь на родину, я обнаружил, что по обратную сторону океана меня ждала знакомая аудитория. В первых рядах сидели те же старушки, знавшие наизусть Цветаеву. Позади – противники Кремля и заодно Америки, готовые терпеть сюжеты о словесности, чтобы узнать, с кем пил Довлатов и жил Бродский. Но окончательно я почувствовал себя дома, когда встал невзрачный мужчина с грустным лицом и помятой лысиной.
– Не подскажете, – спросил он, – как мне найти работу?
– А какая у вас профессия? – опешив, спросил я, как будто это что-нибудь меняло.
– Клоун, – объяснил он и погрустнел еще больше.
3
Все русские улицы Америки не отличаются друг от друга и счастливы одним и тем же. Удовлетворяя универсальные запросы соотечественников, они предлагают прейскурант услуг, составляющих нашу национальную идентичность и делающих ее уникальной. Это – супермаркет “Одесса” с жирной колбасой, бородинским хлебом и тёщиным хреном марки “Закусон”. Аптека с валидолом, горчичниками и зеленкой. Пышный ресторан “Эрмитаж” и забегаловка того же названия и с теми же пельменями, которые лепят пенсионерки- учительницы за разговорами о прекрасном. Духовную жизнь обеспечивает книжный магазин с Пикулем и гжелью, шахматный кружок, студия художественной гимнастики, школа фигурного катания и, наконец, баня.
С лучшей из них началось мое знакомство с городом ангелов. Хозяин, однако, скорее походил на черта. Врач-кардиолог Аркадий был по призванию мастером и философом бани. Из-за нее он и уехал.
– В России, – объяснил он, – вечно подсказывают, что мне делать в парной.
Поселившись в Лос-Анджелесе, Аркадий купил дом, пристроил баню, остался ею недоволен. Продал дом, купил другой, соорудил новую баню и редко выходил из нее. Шли годы, район стал опасным, жена жаловалась, дети пугались, но о переезде речь идти не могла, ибо на третью баню сил не осталось.
Закончив банную сагу, Аркадий втолкнул меня в парную, где от жара горели волосы и размягчались кости. Дождавшись, пока мне стало совсем невмоготу, он внес можжевеловый веник, отличавшийся от тернового венца тем, что иголки, впиваясь в мясо, оставались в нем. Но мне уже было все равно и я не сопротивлялся, когда меня вытащили наружу и швырнули в бассейн с водой, не уступающей температурой студеному Балтийскому морю. Вынырнув скорее по инерции, чем по собственному желанию, я был возвращен к жизни стаканом ледяного “Абсолюта”.
– Хорошо? – спросил Аркадий.
– Даже не знаю, что сказать, – соврал я.
– Тогда повторим.
Увернувшись, я задал вопрос, мучивший меня с начала процедуры.
– Скажите честно, как наследник Гиппократа, разве от этого нельзя умереть?
– А ты собираешься жить вечно? – заносчиво ответил Аркадий. – Баня как жизнь: мучения – условие наслаждения, наступающего тогда, когда судьба промахнется. У нас в Голливуде это называют хеппи-энд, и жить без него – все равно что сидеть в парной без выхода.
– По-моему, – нащупав сюжет, сказал я, – ваша баня годится для кино.
– В Лос-Анджелесе для этого все годится, и нет никого, кто не мечтает его снять.
И правда, Голливуд так заражал эту местность, что идеи для фильма были у всех, кого я встречал: стюардесс, официантов, полицейских. Больше других меня заинтриговал соотечественник Эдуард Тополь, начавший свой сценарий in media res: “Голая Сарра лежала на диване”.
Отмыв и поправив, Половец принялся водить нас по гостям в качестве экзотической достопримечательности. Местных поражало, что кто-то живет в Нью-Йорке добровольно – с зимой и бездомными, с либералами и без оружия, среди негров и демократов.
Старожилы Лос-Анджелеса считали высшим достижением культуры бассейн и гордились своим городом, но я смог найти его только на карте. Растворяясь, словно медуза на песке, Лос-Анджелес кончался, не успев начаться, а центра в нем не было вовсе. Перебираясь от одного бассейна к другому, мы надоедали хозяевам, умоляя показать столицу духа, наводящую грезы на весь мир.
В конце концов над нами сжалился старый