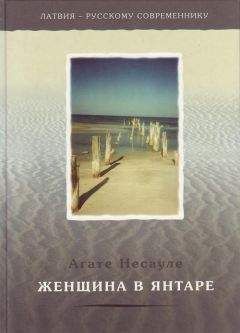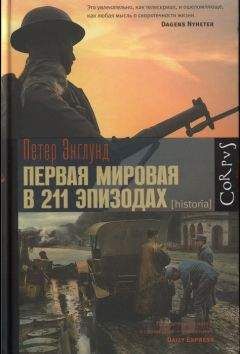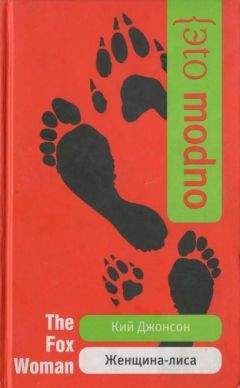Я стою в изножье кровати и смотрю на него.
— Иди сюда, — просит он. — Все так паршиво ко мне относятся. Мне казалось, что ты-то уж будешь другой. Ради тебя я работал, света Божьего не видел, а с рестораном дела все хуже. О, Господи, ты же должна об этом знать, ведь на тебе бухгалтерия. Ты бы могла быть не такой мрачной и иногда со мной разговаривать. Послушай, ведь мы никогда бы так не ссорились, если бы не любили друг друга. А?
Но моя способность к сопротивлению окрылила меня. Нет, я больше не дам себя уговорить. От своей независимости я не откажусь.
Я смотрю мимо него, в окно. Голые деревья в свете луны выглядят серебристыми. Лунная дорожка, пересекающая лужайку, высвечивает сохранившийся кое-где слежавшийся снег. Скоро весна, я слишком заморочена, чтобы ее заметить.
Я слышу голос Джо, настойчивый, льстивый, монотонный.
— Послушай, я знаю, что ты меня любишь.
— Нет, — наконец отваживаюсь я, — не люблю.
И испытываю чувство огромного облегчения, словно бы скинула с плеч груз собственной лжи. С чувством вины, хоть я и на самом деле так думаю, добавляю:
— Пожалуйста, Джо, прости меня. Если мы останемся вместе, кто-то из нас погибнет — от депрессии, самоубийства, пьянства. Я должна спастись. Мне действительно жаль.
— Так и должна ты себя чувствовать, неблагодарная стерва. Сегодня ночью я здесь не останусь, — он принимается натягивать брюки. — Пойду туда, где меня ценят.
— Пожалуйста, не садись сейчас в машину, — по привычке говорю я.
— Буду делать, что захочу, — отвечает он с мертвящим спокойствием в голосе. — И знай, дом тебе не достанется. Без меня тебе придется несладко.
Он берет ключи.
Когда его машина с ревом отъезжает, я спускаюсь вниз, проверить, все ли двери заперты. Я ужасно устала. Словно только что завершила первый длинный этап нелегкого пути. Я гашу свет, до меня долетает сладкий аромат гиацинтов. Фарфорово-голубые соцветия, зажатые тугими листьями, выглядывают из плоской белой корзиночки, в которой стоит горшочек с цветами. Я ложусь и глубоко вдыхаю их аромат. Единственные, распустившиеся этой зимой. Я жалею, что не посадила больше.
И тут я вспоминаю, что на лужайке снег лежит только в нескольких местах. Скоро весна, другие цветы расцветут на моей клумбе, все будет хорошо.
Я ложусь в кровать, закрываю глаза. Мне кажется, я не смогу уснуть, буду вертеться, метаться, упрекать себя, что так безжалостно поступила с Джо, буду винить себя во всем, особенно в том, что за долгие годы совместной жизни не сумела унять его боль, исцелить его, но стоило мне закрыть глаза, и я тотчас засыпаю.
Мне снится, что я лежу на узкой белой кровати. Она очень старая, может быть, еще восемнадцатого столетия, она из розового дерева, грациозные ножки ее изящно выгнуты. Белые шелковые простыни нежно касаются моего сильного обнаженного тела. На низком столике возле кровати зеленеют яркий плющ и лавр, и папоротники, больше в комнате ничего нет. Ранние лучи солнца проникают через витражные окна, отражаются в паркете, исчезают, перетекают в сумерки. Комната такая большая, что я не вижу, где она кончается.
Я потягиваюсь, меня поражает ощущение собственной силы и бодрости, как ни странно, я ничуть не устала. Я позволяю шелковым простыням обволакивать меня, наслаждаюсь их нежной роскошью, разглядываю зеленеющие растения.
Неожиданно я замечаю, что не одна, вместе со мной в кровати еще кто-то, но места мне хватает, я не чувствую угрозы. Рядом лежит бабушка, совершенно без сил и такая худая, что усталость уже не имеет значения. Она даже старше, чем десять лет назад, когда я видела ее в последний раз — за месяц или два до смерти. Тело ее — лишь прозрачная кожа, даже кости еще больше истончились. Она как бы бесплотная, выделяются только свежие синяки и старые шрамы на лице и руках.
— Я сейчас умру, — говорит бабушка, — я жила тут слишком долго. Я хочу умереть.
Она распускает волосы, снова ложится и закрывает глаза. Она невесома, следа на подушке не остается.
— Пожалуйста, не умирай, — прошу я, — ты должна остаться со мной.
Но бабушка, похоже, не слышит. Дыхание ее такое легкое, что кажется, она уже умерла.
— Останься со мной, — прошу я, — как я буду без тебя. Пожалуйста. Мне страшно оставаться одной.
Меня охватывает ощущение беды, боль утраты, они, кажется, даже сильнее, чем когда я возвращалась с бабушкиных похорон. Я ехала тогда в автобусе одна, не плакала, я говорила себе, что бабушка прожила долгую и насыщенную жизнь, что минувший год был для нее таким тяжелым, что ничем уже нельзя было помочь, что ей суждено было умереть. И вдруг я вспоминаю ее могилу на кладбище в Индианаполисе, в латышском секторе. Укрытую цветами, а вокруг ни души, все ушли и оставили бабушку одну, бросили ее под холодным ноябрьским дождем. Мне захотелось выпрыгнуть из автобуса и вернуться к ней, чтобы ей не было страшно, но я, конечно, этого не делаю. Всю дорогу до дома я плачу, удивляясь сама себе. Я не плакала ни на похоронах, ни потом.
— Иисусе, — сказал Джо, против его воли мои заплаканные глаза произвели на него впечатление. — Ну и паршивый вид у тебя! Подойди ко мне, я тебя пожалею. Вечно ты возвращаешься расхристанная от своих. Не понимаю, сколько гадостей они тебе сделали, а ты все одно готова стелиться перед ними, ну, это уж твоя проблема. Идем, я угощу тебя ужином в китайском ресторане, — ласково произносит он, — но надо поторопиться, а то «Золотой Дракон» закроется, а больше нигде к ужину выпить не подают.
Тогда меня потрясла глубина моих чувств, но впоследствии я научилась ими управлять. Постепенно они слабели, ушли в подполье, и все же в моем сне проявились, интенсивность и глубина их пробудили воспоминания и боль, как дуновение аромата сирени вызывает в памяти минувшие вёсны.
— Пожалуйста, — не уставала я просить, — бабушка, я не смогу без тебя, у меня никого больше нет.
Я не должна дать ей умереть.
— Я слишком стара, — сказала бабушка, — я жила с тобой слишком долго. Мне давно пора было умереть. Ты молода, мое золотко. Ты еще и не начинала жить. Пришло твое время.
Бабушка закрывает глаза, дыхание становится все реже, потом исчезает совсем, хотя я всю себя сосредоточила на одном желании — не дать ей умереть.
Бабушка, легкая и спокойная, лежит на белой несмятой подушке. Я глажу ее по мертвой щеке и кажется, что от моего прикосновения багровые синяки светлеют. Может быть, со временем, омытые слезами, они станут совсем незаметными и, может быть, исчезнут совсем.
Даже в своем горе и страхе за будущее я знаю, что бабушка права. Пришло ее время умереть. Пришло время отбросить все неизлечимо больное и отмирающее, пришло время родиться новому.