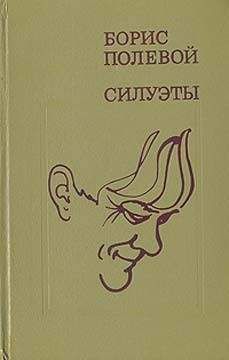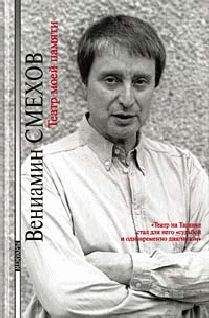Потом обратился ко мне и, слегка покачивая в такт речи трубкой, зажатой в прокуренный кулачок маленькой руки, спросил:
— Вот вы, всесветный бродяга, много по белу свету мыкаетесь, как наш Урал по сравнению со всякими там заграницами выглядит?
Я сказал. Бажов серьезно кивнул головой:
— Ну вот видите! Когда вы в Европы-то ездите, это — экскурсия в наш вчерашний, а то и в позавчерашний день, в прошлое, которое у нас уж и старикам по ночам не снится… А вот поездка сюда — это в завтрашний день. Да, да. А как еще досадно мало написано об Урале, о его людях. Мало и серо… Не раскрыт еще он по-настоящему литературой.
Сам он считал это главным делом своей жизни, и думается, что никто до него не писал об уральских тружениках так тепло, так задушевно, так мудро, как он.
А потом, незадолго до того, как болезнь положила его в постель, он с женой посетил нас в Москве. Он подарил нам однотомник своих сказов, прекрасно изданный на Урале. Как мастер, довольный своим изделием, он прикинул на руке увесистую книгу:
— Не велика, а? Не грузновата?
В нем самом было что-то от этих славных уральских умельцев, мастерство которых он так воспел…
— А сколько еще ненаписанного… Вот сон стал плохой. Лежу по ночам, и они приходят ко мне, все эти не описанные мной люди… Вижу их, слышу их, знаю их судьбы… Эх, мне бы еще годков… — Он не договорил, вышел на балкон, стал возиться со своей трубочкой…
После смерти Павла Петровича я снова перечитал подаренный им том. Еще выше, еще прекрасней поднялся из его сказов обобщенный образ уральского труженика, великого умельца, поэта своей профессии, мастерство которого покоряет все и вся. И мне вдруг вспомнилось, как читал эти сказы смертельно усталый офицер при свете коптилки, в блиндаже, вырубленном саперами в прибрежном откосе польской реки, читал после долгого боя в последнюю ночь своей жизни.
И подумалось: человек, создавший этот новый сказочный цикл, выведший в свет большую семью новых сказочных героев, сам будет вечен, как вечно истинное мастерство.
А. Твардовский
Не помню почему, но весть о том, что в Сибири назрело интереснейшее событие — перекрытие великой реки Ангары у села Братска, в редакцию опоздала, и мы с художником Орестом Верейским, направленные туда в качестве специальных корреспондентов «Правды», пропустили все рейсовые самолеты. Но нам сказали: возможно, ночью будет спецрейс. Возможно! И с вечера мы уже маялись у касс аэродрома, моля всех богов, чтобы это «возможно» стало фактом. Тут встретили мы еще одного товарища по несчастью — пражского корреспондента Иржи Плахетку. Истинный репортер, который, как говорится, всегда знал о пожаре еще до его возникновения, тоже прозевал самолет. Зато он многозначительно сообщил, что с нами в Братск вылетает Твард.
— Твард?
— Ну да, Александр Твардовский. Не слышали?.. Летит, летит. Он сам мне об этом говорил.
Признаюсь, мы очень обрадовались. Орест Верейский всю войну провел вместе с Твардовским в редакции фронтовой газеты и очень любил этого человека. Мы с Твардовским входили когда-то в секретариат Союза писателей, довольно часто встречались и, пешком возвращаясь домой, любили потолковать по душам. Ну, а на войне я, разумеется, был яростным поклонником его «Василия Теркина». Но когда спецрейс объявили, в очереди пассажиров, отлетающих на Иркутск, Твардовского не оказалось. Девушка, выписывающая билеты, просмотрев список пассажиров, сказала:
— Александра Твардовского нет. Не значится. Зато с вами летит… американский миллионер Аверел Гарриман. Устраивает?
Замена была неравноценной. Твардовского мы все трое любили и очень жалели, что он отстал. В те дни уже печатались главы его новой поэмы «За далью — даль». В поэме он как раз добрался до тех заповедных сибирских мест, где сейчас должна была зародиться крупнейшая по тем временам электростанция мира. Было жаль, что автор этого поэтического и, я бы сказал, философского путешествия не станет свидетелем этого зарождения.
И так уж случилось, что первую часть рейса мы проговорили о нем, о Твардовском, о народности и поистине всепокоряющей силе его поэзии, о том, как в творчестве его сейчас начинают сливаться традиции Некрасова и Пушкина. Верейский первым, еще во фронтовые времена, проиллюстрировавший «Теркина», с юмором рассказывал, как долго мучался он, ища графическое воплощение знаменитого русского солдата, как израсходовал массу листов на эскизы, прежде чем нашел живую модель в лице одного знакомого политработника. Чех утверждал, что «Теркин» столь же бессмертен для русских, как «Бравый солдат Швейк» для чехов. Ну, а я вспоминал, как главы этой удивительной поэмы в дни ее постепенного рождения точно бы по волшебству мгновенно распространялись из «Боевой красноармейской» по всем фронтам, как писалось в те дни, от «Белого до Черного моря», и как верный мой шофер и друг Петрович, сам в жизни как бы представлявший собой сплав Швейка и Теркина, со значительным преобладанием Швейка, по любому фронтовому случаю декламировал из этой поэмы то шутку, то присказку, то остроумный солдатский анекдот. И как он однажды, когда машина наша провалилась под лед на реке Одер и сам он еле при этом спасся, извлеченный из воды пехотинцами, горько продекламировал:
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода…
Несмотря на то что в Иркутске не нас, разумеется, а Аверела Гарримана со свитой, ждал специальный самолет, на перекрытие Ангары мы все-таки опоздали и прибыли в древнее село Братск, основанное еще сподвижниками Ермака Тимофеевича, с опозданием, когда пойма Ангары под утесом Пурсей была уже залита пестрой толпой и шло народное гулянье. На подъездах к мосту, по которому только что двигались вереницы самосвалов, обрушивавших в реку бетонные монолиты, груды песка и щебня, — пестрая человеческая кипень: загорелые девушки в цветастых платьях, парни в клетчатых рубахах, солидные строители, пришедшие сюда с женами и детьми полюбоваться рекой, порадоваться своей победе.
Наш чешский друг с упорством трудолюбивой пчелы порхал в этой толпе со своим киноаппаратом, когда у меня за спиной раздалось веселое и насмешливое:
— Что, опоздали? Реку-то, вот, без вас пришлось перекрывать. Как же это вы, братцы, а? Тоже мне — газетчики.
Перед нами стоял улыбающийся Твардовский. Загорелый, посвежевший, с выгоревшим чубом, в клетчатой рубахе с закатанными рукавами, он был похож на строителя и совершенно сливался с веселой толпой. Оказывается, предупрежденный кем-то из своих бесчисленных почитателей, он прибыл сюда заблаговременно и теперь вот смотрел на нас со снисходительной насмешкой.