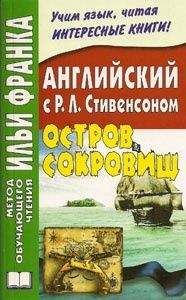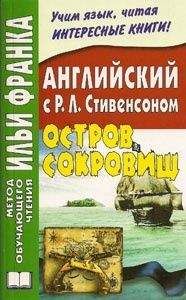Разве не так? Он увлекает его в историю; он рассказывает Пушкину о переменах на русском троне, об убывании и возрастании царей. Это прямо отражается в тексте пушкинской драмы: Пимен сообщает Отрепьеву сведения, согласно которым Годунов «убывает» и которые в итоге толкают Григория на дерзость самозванства.
Карамзин толкает Пушкина на самозванство. Тут есть о чем задуматься. В контексте перемен в русском языке так оно и есть: Карамзин (невольно) соблазняет Пушкина царством слова. Сам оставаясь в Моисеевой позиции, «архитектором» события, он открывает Пушкину возможность первому перейти Иордан, воцариться в земле обетованной — и погибнуть, пожертвовать собой за эту царскую участь.
Карамзин не идет на это, он отстраняется в исторические наблюдения, остается вне события.
Пушкин прямо в него вовлекается. Он наследует Карамзину, по крайней мере претендует на его наследие. Но Пушкин принимает не эстафету историка (много позже он будет к этому склоняться, исследуя Петра и Пугачева), но опасное право на «царское» сочинение собственной истории. Вот главное для Пушкина наследие Карамзина: слово, фокусирующее историю в нашей памяти, оформляющее ее заново.
То же в драме: Пимен говорит Отрепьеву — тебе свой труд передаю. То есть: один историк передает другому право на «владение» историей. Во что превращает Отрепьев это право? В сочинение, в дерзость самозванства, в попытку самому занять московский трон.
Тут много сходства, и сходства неслучайного. Оба они, Пушкин и Отрепьев, злоупотребляют наследием учителей в своих претензиях на московское царство. Пушкин в этой общей мизансцене равен Отрепьеву, он выдает в своем герое многое из собственных замыслов.
Он понимает, что его претензии на историческое сочинение, на наследие Карамзина незаконны; тем более преступны его замыслы против царя Александра. Этот грех Пушкин сознает изначально — тем легче ему представить себя в роли самозванца: преступника, цареубийцы, ниспровергателя трона. В январе 1825 года Пушкин еще европейский революционер. Его упражнение с «Шенье» показывает это вполне определенно.
* * *
Все же совесть не дает покоя Александру — не в отношении царя, того в котел, того вари! — в отношении Карамзина. Он готовится злоупотребить его подарком: перетолковать историю заново, да еще с преступными намерениями. И Пушкин — показательная деталь — в одной из первых редакций выводит третьего участника, злого инока Леонида: будто бы этот инок, а вовсе не старец Пимен (не Карамзин) подталкивает Отрепьева (Пушкина) к преступлению. Так снимается с учителя ответственность за дерзость ученика.
Но немного спустя Александр возвращается к исходной мизансцене: удаляет «лишнего» Леонида, и остаются двое — Пимен (Карамзин) и Отрепьев (Пушкин).
Это справедливо: Карамзин «виновен»: Пушкин пользуется тем его словесным изобретением, которое производит вместо истории миф. Пушкин получает у Карамзина инструмент против истории: литературное «пространствообразующее» московское слово. Это слово претендует на то, чтобы творить историю задним числом — заново [63].
Вооруженный им Отрепьев делается сильнее царя Бориса; также и Александр Пушкин, вооруженный словом, который ему сообщил Карамзин, делается сильнее Александра Романова.
Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца, —
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет.
От слов отшельника, от одного разговора о несчастном младенце Борис слабеет, кренится и падает с московского трона. Он мертв, а слово живо.
Однако и о сочинителе тут сказано тяжкое слово.
Донос. Да еще ужасный. Важная оговорка. Переложение истории, поэтизация ее заново с целью захвата власти есть грех. Самозванство уже есть великий грех. К этому заранее готовится самозванец Отрепьев. Оба готовятся: Отрепьев и Пушкин.
* * *
Отступление о несчастном младенце: можно ли, сознавая условность этих расшифровок, предположить, кто в современной Пушкину ситуации этот невинно убиенный Димитрий?
Здесь появляется опасность схемы: непременно всех персонажей драмы (которой толком еще и нет) нужно расписать по современным поэту прототипам.
Можно вообразить, что под младенцем, что погиб на его веку, Пушкин подразумевает все свое поколение, в свое время поверившее царю Александру. Александровские юноши были царем обмануты, и теперь на глазах поэта погибали, тонули в пустоте послевоенного безвременья. Все они были «зарезанные» (обманутые властью) царевичи Димитрии.
Пушкин в принципе был заряжен идеей мести старшим, перечеркнувшим ему и его ровесникам настоящую жизнь, отменившим свободу, сославшим его в псковские нети. Много мести в «Годунове»; в частности, это месть сыновей отцам. Так он озвучивал конфликт поколений: сыновья против отцов, против поколения Екатерины. У них есть новое оружие: новое, «живое» слово; отцы, поверженные в войне слов, забываются, уходят в старину.
Но ответ на вопрос о прототипе Димитрия может быть более конкретен. Намек самозванца на невинно убиенного, который одним словом сводит Годунова в могилу, в переложении на пушкинское время может означать намек Александру I на убийство отца, императора Павла. Этим словом можно свести в могилу царя Александра.
Когда-то Пушкин позволил себе такой намек — и за это отправился в ссылку. Его полет на юг по русской вертикали, с разбора которого началось это исследование, случился как раз после такого намека [64].
Теперь, в Михайловском, Пушкин ведет себя осторожнее. Намеки на цареубийство он упаковывает в историю. Он не говорит Александру слово «Павел» — у него Отрепьев говорит Годунову слово «Димитрий». И одно это слово перевешивает Годунова со всей тяжестью его власти.
Этот фокус радует Пушкина необыкновенно. Он напускает на царя Бориса «Димитрия» и дальше только смотрит, как слово перевешивает царя.
Годунов не в силах отвести угрозы:
…Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Сорвет, лишит: на то оно и русское слово.
Поколение отцов в пушкинской трагедии обескуражено, встревожено, оно заранее проигрывает битву за московский трон. Самый старший из всех отцов — патриарх Иов. Он возмущен, он пеняет молодым (пеняет на два века вперед поэту Пушкину):