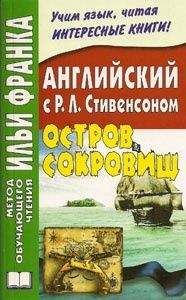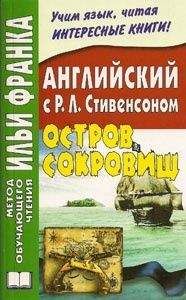«Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! буду царем на Москве!»
Выдумал — Пушкин: он первый из всех молодых грамотей, тот, что владеет словом, как Архимедовым рычагом. Он именно это и выдумал для себя — сесть на Москве царем.
По крайней мере, он движется в этом направлении. Пушкин имеет к этому определенные предрасположения пространства. Возможно, нет еще «Годунова», как ясно прописанного замысла, нет первых сцен и заготовок на будущее. Но даже и в этом случае уже обозначившаяся (до слов) гравитация сочинения, соразмерения себя с московским пространством влечет Пушкина в центр композиции некоего произведения, которое неизбежно обратится «Годуновым» или подобной ему царской сказкой.
* * *
Допустим, так: сначала — в январе — Пушкину видится (возмутительная, с намеком и замыслом) романтической поэма о монахе-историке и его дерзком ученике. Но очень скоро, по мере освоения в «праздничном пространстве» нового года, по мере того как открывается перед ним новое московское пространство, он понимает, что теперь недостаточно будет такой романтической поэмы.
Нужен новый текст, иначе скомпонованный, удерживающий историю по-московски — магнетически (фокусно), где автор играет «царскую» роль — «Я-текст».
Но прежде чем создавать такой «Я-текст», сам Пушкин должен перемениться, перечертиться, чтобы соответствовать этой новой для себя, с каждым днем все яснее ощущаемой московской гравитации. Пока для этого он слишком европеец, романтик, сочинитель по инерции петербургский, внешний для Москвы. Он только начал меняться после Крещения; сюжеты, что ему являются, он принимает в привычном формате. Отсюда переложение себя в «Шенье», хорошо знакомое по настроению, разве только отмеченное новым звоном слов.
Собственно, и этот-то разговор — монаха с учеником — еще вполне романтичен, в нем слышны «южные» проговоры; он, хоть и оставленный в итоге в общей композиции (аппликации) «Годунова», несет в себе отзвук прошлого, 1824 года.
1825 год только просыпается; он сделал один только шаг, из января в февраль. Время едва двинулось с места. Но уже теперь оно подает поэту «пространственные» указания, требует нового текста.
* * *
Первыми набросками исторической поэмы Пушкин недоволен. Все это не то, не так ново и не так полно, как теперь ему хочется. Календарь, за ним открывающееся пространство русской истории отдают другим эхом. Что-то не сходится; «Годунов» не похож на календарь. И Пушкин прячет «Годунова»; в письмах о нем не упоминает (только в апреле рискнет показать первые наброски Дельвигу). И далее, когда пойдет дело, он будет умалчивать об этом своем принципиально новом сочинении.
Лучше так: о новом принципе сочинения. То ли из суеверия, то ли из некоего глубинного ощущения, что это не просто новое сочинение, но иной порядок устроения самого себя.
Поэтому он прячет «Годунова» и продолжает слушать эхо (истории, календаря).
Незаметно, но ощутимо меняется пушкинский чертеж, у него появляется невидимая московская подкладка.
За окнами прибыло света, отчего серые полосы у горизонта делаются сиреневыми и начинают понемногу оплывать вниз. Красок за окном больше, поверхность озера оживлена поземкою, которую, впрочем, лучше наблюдать издалека, а не запускать под подол, отчего до самого сердца снизу пробирает ледяным.
Движения прибавилось. Но не это главное; главное — в очередном удивительно уместном (календарном) совпадении, подарке судьбы, которые в этом году следуют Пушкину один за другим.
Он читает драмы: «Горе от ума» (в списке) и сверх того Шекспира (в подлиннике, на английском). После «Истории» Карамзина Александр с головой погружается в наблюдение диалогов. Он с утра до ночи читает драмы — и какие! — его чтение, его попутное чтению существование диалогично, сретенски двоично. Вот в чем совпадение и подарок: после темных праздников январского одиночества, после наблюдения за монахами Пушкину выпадает праздник февральских встреч — «сретений», — явленный в чтении театральных драм.
* * *
Диалог уже начался — между учителем и учеником, Карамзиным и Пушкиным, Пименом и Отрепьевым. Но это прежний, «плоский», односторонний (на одной стороне листа), однообразный диалог. Говорили герои поэмы; нужна полноценная, приготовленная к сцене драма. Сцена, ее особое пространство даст тексту необходимый отзвук, подкладку, обнаружит скрытые смыслы слов.
Так январский эскиз «сретенским» образом оборачивается в феврале драмой.
Сретение — праздник диалога: герои на сцене перебрасываются репликами, и всегда между ними бликует настоящее мгновение, трещина междузаветная.
Новое соображение: драме дулжно идти в настоящем театре, где имеют всю силу воздействия на зрителя столкновение реплик и между ними эта трещина настоящего мгновения. Слова этой пьесы не должны принадлежать одной бумаге. Это новые, «объемные», режущие и ранящие слова.
Пока их нет; для их производства нужна алхимия, Александру еще не ведомая. Нужны все его знания, все чувства, сообщающие ему то, что сверх его прежнего знания, чтобы произвести на свет эти слова и эту новую пьесу.
* * *
Опыты в драматургии заняли в феврале все внимание Александра: сцена в своем искусственном, замкнуто-разверстом мире дает уроки конфликтного умножения пространства. Трещины диалога, разномыслие героев: воздух в михайловской «келье» так и рябит.
Пушкин по пунктам разбирает Грибоедова, пробует на зуб каждого его героя. Сначала ругает автора, затем отпускает ему все грехи — художника должно судить по его же собственным законам.
Вот что Пушкин пишет о Чацком: он вовсе не умен, он где-то наслушался умного человека (это он о себе, а не о Чацком, он, Александр наслушался Пимена — Карамзина).
Солнце, что с каждым днем незаметно его ободряло, показывая пример диалога в природе (зима против весны), в должный момент прервало эти книжные представления. Театр, ежедневно отворяемый в книге, ближе к весне был закрыт.
Наверное, причиной стало солнце — его прибыло уже довольно. Каждый год на рубеже февраля и марта непременно случается день, когда свет прибывает заметно — мгновенно, внезапно. Против закона природы, но согласно закону восприятия: «тяжести» света уже достаточно, чтобы весна потянула свою чашу весов вниз.
После этого солнечное представление становится куда заметнее, ярче потустраничного грибоедовского. Водопады сосулек, играющие огнем, как органные трубы, деревья, сбрасывающие морозные кисеи, видимые ясно, до последней черточки на коре: внешний, явный мир подступает все ближе и все дальше прячутся в книгу бумажные герои, которыми он любовался накануне.