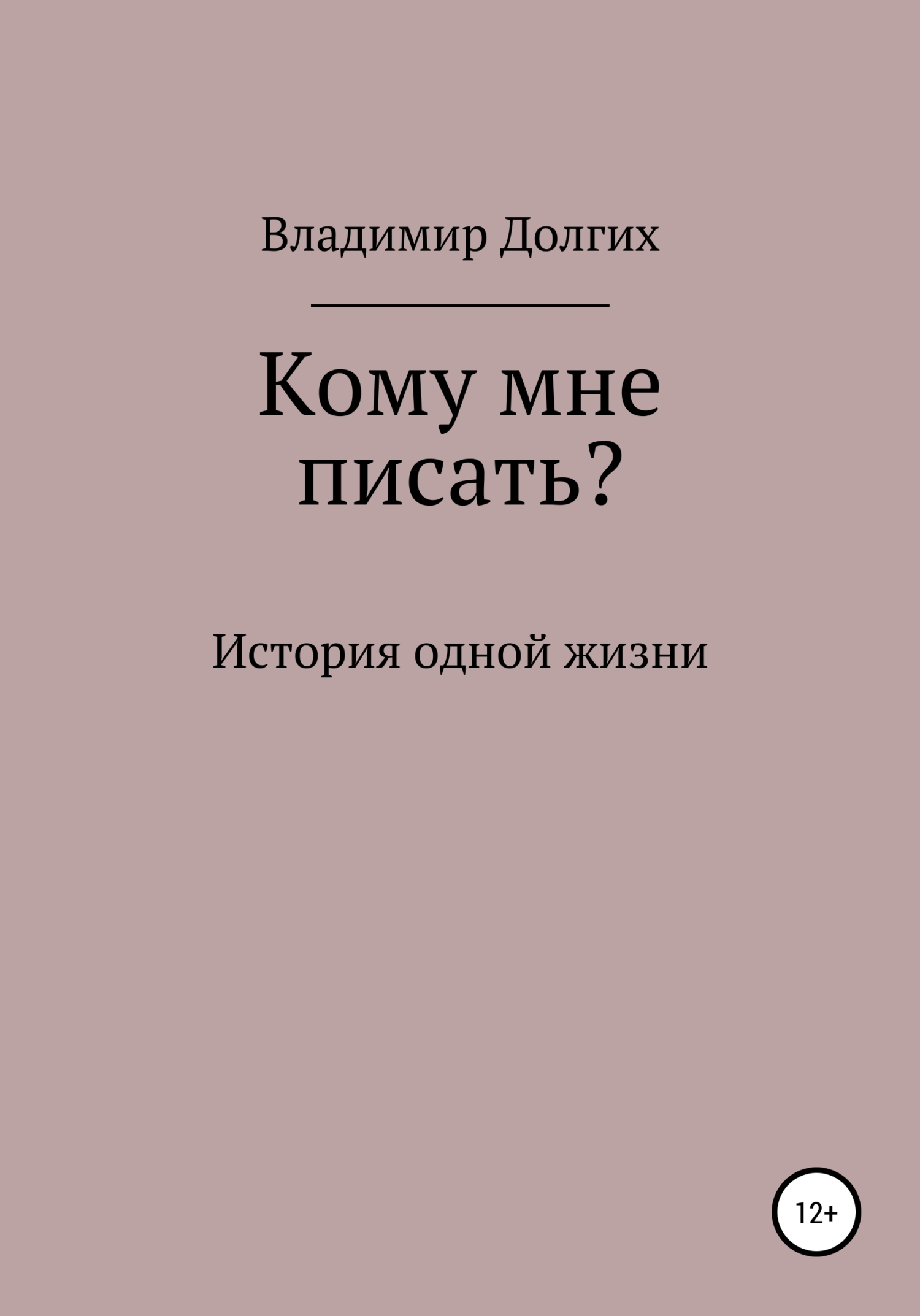открывались и входили в моду новые заведения. Но в тот год бар «Лорелс» стал важен для тех, кто там познакомился или на время обосновался. Было в нем что-то семейное.
По воскресеньям мы с Мюриэл пораньше уезжали с гей-пляжа на Кони-Айленде или в Риис-парке, садились на метро, чтобы дома помыться, одеться и прошвырнуться в «Лорелс», успев на четырехчасовой бранч. Именно там у меня случилась первая открытая конфронтация из-за расы с другой лесбиянкой.
В тот день мы с Мюриэл вернулись из Риис-парка, полные солнца и песка. Занялись любовью, пока соль оставалась на коже, потом ополоснулись, помыли головы и собрались выходить. Я надела свои выцветшие бриджи для верховой езды с замшевой вставкой между ног и бледно-голубую фуфайку с короткими рукавами, купленную на той неделе «У Джона» на Си-авеню за шестьдесят центов. Мою продубленную солнцем кожу докрасна отполировали жара и любовь. Волосы, свежеостриженные и только что вымытые, обрели особую летнюю жаркую ломкость. Я чувствовала себя похотливой и неугомонной.
Из вечернего августовского зноя мы спустились в неожиданно прохладную полутьму «Лорелс». Мюриэл, бледная как смерть, с вечной сигаретой в руке, надела черные бермуды и рубашку. Я шла позади нее, чувствуя себя толстой, Черной и очень пригожей. Мы не вписывались ни в одну группу или категорию, и в тот день я поняла, что очень этим горжусь, хотя некоторые из-за этого и смотрели на нас, задрав нос.
Когда мы с Мюриэл набрали еды, взяли пива и отхватили столик, к нам подошли Дотти и Поли. Мы часто сталкивались с ними в «Баге» и в супермаркете на Ди-авеню, но в гостях друг у друга не были, за исключением того Нового года, когда все стеклись к нам поесть.
– Где были, подруги? – Поли простодушно улыбалась, светлые волосы и голубые глаза, оттененные бирюзовой китайской блузой, сияли.
– В Риис. На гей-пляже, – Мюриэл, согнув палец, подцепила бутылку и отхлебнула. Из стаканов мы не пили – это считалось пидорским, хотя иногда мне их не хватало: от холодного пива сводило зубы.
Поли повернулась ко мне:
– Слушай, а здорово ты загорела. Я и не знала, что Негры тоже загорают, – ее широкая улыбка была призвана обозначить это высказывание как шутку.
Обычно в подобных ситуациях я выстраивала линию защиты так, чтобы проигнорировать намек и отпустить ситуацию. Но Дотти Доз, возможно, испытывая неловкость из-за затронутой запретной темы, никак не могла с нее соскочить. Она всё нахваливала мой прекрасный загар. Поднесла свою руку к моей, чтобы сравнить. Покачивала светлой головой и говорила всем, кто был готов слушать, как она хотела бы так классно загорать, а не просто краснеть от солнца, и осознаю ли я свое счастье, заполучив такой прекрасный оттенок. Болтовня так меня утомила, что я затряслась от ярости: больше терпеть не было сил.
– Что ж ты так не носишься с моим природным загаром, а, Дотти Доз? Почему бы это?
За столом повисла тишина, потом раздался мрачный одобрительный смешок Мюриэл, и мы, к счастью, сменили тему. Но меня всё еще трясло. И этот случай запомнился на всю жизнь.
В лесбийских барах я искала других Черных женщин, но никогда не осознавала этого настолько, чтобы сказать об этом вслух. За четыреста лет, прожитых в этой стране, мы выучились относиться одна к другой с большим подозрением. В мире лесбиянок всё было точно так же.
Большинство Черных лесбиянок сидели таясь и правильно понимали, что своим, Черным, мы не интересны, а в расистском сообществе наше выживание сопряжено с прямыми угрозами. Черная, Черная женщина, Черная женщина-лесбиянка – это было трудно. Черная, женщина, лесбиянка, открытая в белом окружении, хотя бы просто на танцах в «Багателе» – многим Черным лесбиянкам это казалось просто суицидом. И если у тебя хватало на это глупости, лучше было оставаться настолько жесткой и крутой, чтобы никто с тобой не связывался. На фоне их утонченности, их одежды, их манер, их машин и их фэм я чувствовала себя весьма незначительно.
Черные женщины, что обычно попадались мне в «Баге», обычно играли брутальные роли, и меня это пугало. Отчасти здесь отражался мой страх из-за того, что я сама Черная, а отчасти для меня это было всего лишь маскарадом. Их жажда власти и контроля казались воплощенной частью меня, только во вражеской одежде. Их суровость была особенной, себя я такой никогда не представляла. И даже если они на деле не были такими, инстинкт самосохранения подсказывал им вести себя подобным образом. Из-за искаженных представлений о красоте, скроенных по расистским американским меркам, у Черных фэм в «Баге» шансов было мало. Среди бучей шло постоянное соревнование, чтобы заполучить «самую красивую фэм». Но эта «красота» определялась стандартами мужского мира.
Для меня поход в «Баг» в одиночку равнялся визиту в аномальную нейтральную зону. Для фэм я была недостаточно хорошенькой или пассивной, для буча мне не хватало заносчивости и суровости. Я бултыхалась в сторонке. Нетрадиционные люди кажутся опасными даже нетрадиционному сообществу.
За исключением нас с Фелицией другие Черные женщины в «Баге» избирали своими оберегами все доступные приметы властности. Неизвестно, чем они занимались на неделе, но вечером в пятницу, когда Лайон или Трип появлялись в клубе, иногда с богато одетыми женщинами под ручку, а иногда и вдвоем, они сразу привлекали внимание и вызывали восхищение. Состоятельные, потрясающе одетые, сдержанные честолюбицы, которые водили кабриолеты, покупали напитки всем своим подружкам и в целом решали вопросы.
Но иногда даже они не могли попасть внутрь, если вышибалы их не узнавали.
Мы с подругами были хиппи лесбийского круга, когда этого слова еще не придумали. Многие из нас умерли или сошли с ума, и многих перепахало войнами, в которых нам приходилось сражаться. Но, выживая, мы становились сильнее.
В те годы каждая Черная женщина Виллидж, встретившаяся мне на пути, сыграла роль в моем выживании, большую или малую, – да хотя бы одним своим присутствием в «Баге» вечером пятницы.
В «Багателе» Черные лесбиянки сталкивались с миром, который был лишь чуть менее враждебным, чем внешний, с которым нам и так приходилось биться за стенами клуба, – тот мир, где мы считались ничтожествами вдвойне, потому что были и Черными, и Женщинами, тот мир, что нагнетал пульсацию крови, доводил до надрыва и кошмаров.
С окончанием Второй мировой войны временная гендерная интеграция на военных заводах и эгалитарный миф о Клепальщице Рози прекратили существование, и американская женщина со всеми потрохами оказалась в заложницах роли маленькой женушки. Насколько я видела, в пятидесятых среди Черных и белых женщин этой страны только