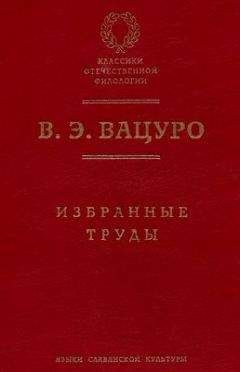8 цензурной рукописи «Северных цветов» стихи А. Одоевского, «З…и Р….ой», «Талисман» и три стихотворения самого Вяземского («Святочная шутка», «Эпиграмма», «Родительский дом») переписаны одной рукой. Видимо, Вяземский дал их переписать своему писцу в Москве и прислал одновременно.
Третьего же октября он послал Дельвигу письмо «с отрывками к.<нягини> Зенеиды» — Зинаиды Волконской, — и Дельвиг уведомлял его, что они будут напечатаны в «Северных цветах»[413].
При помощи и покровительстве Вяземского женщины-авторы являлись в дельвиговском альманахе. Они писали уже не только путевые записки, дидактические романы и благочестивые стихи — они заявляли перед публикой свои права на лирическое самовыражение и духовное самоутверждение.
Это было новостью и знаменем времени. Борьба за общественное равноправие женщин еще впереди — но «женское движение» уже делает свои первые шаги.
Из тетради Вяземского пришли к Дельвигу три стихотворения Александра Одоевского — «Тризна», «Бал» и «Луна».
Первое из них — «Тризна» — принадлежало к лучшим стихам декабристской каторги. В песне скальда как будто воскресал мажорный дух прежней гражданской поэзии:
Утешьтесь! за падших ваш меч отомстит…
Дельвиг продолжал печатать «недозволенное».
9 декабря 1830 года цензор Н. П. Щеглов вынес на суждение Петербургского цензурного комитета два стихотворения В. И. Туманского — «Сетование» (в новой, переработанной редакции) и «Стансы» и статью графа Д. Н. Толстого-Знаменского «О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина».
Этот Толстой стал впоследствии довольно известным историком; тогда же он был скромным молодым чиновником комиссии принятия прошений и только начинал свое литературное поприще. Он приехал из Москвы, где в числе его знакомых были люди, тронутые декабристскими веяниями. Двадцатилетним юношей он отказался идти на празднества в честь коронации «деспота». В Москве он приобщился и к литературе; сослуживец его В. П. Пальчиков, довольно коротко знавший Пушкина, приносил ему новые пушкинские стихи. В своей статье Толстой писал об общественном значении поэта, который есть «выражение образа мыслей и чувствований своего века» и потому представитель гражданской и интеллектуальной жизни нации. Таков Ломоносов, Державин — и таков Пушкин. Общественное мнение увенчало его, и это дало ему право называться великим, ибо он «ответствует сему мнению, ответствует направлению народного духа и идет наравне с веком…».
С мыслями Толстого словно перекликались «Стансы» Туманского:
Теперь не суетную лиру
Повесь на рамена, певец!
Бери булат, бери секиру,
Будь гражданин и будь боец.
Стихи говорили об июльских событиях во Франции и начавшемся польском восстании. Туманский не был на стороне восставших, но в «Стансах» звучала еще прежняя, декабристская символика. Его поэт был уже не только голосом нации, но избранником и вождем. И словно нарочно, та же тема варьировалась в катенинском «Гении и поэте», присланном для «Цветов» еще в конце октября. Катенин прямо писал о свободе Греции и процветании «Вашингтоновой земли». В годину борьбы за свободу, заявлял он, поэт должен возвышать голос: иначе его покинет поэтическое вдохновение.
Катенин предчувствовал, что его стихи не пройдут через цензуру, — так и оказалось. Равным образом в «Стансах» и статье Толстого было обнаружено «направление мыслей неблагоприятное, судя по обстоятельствам времени». «Сетование» было разрешено с изменениями, и Туманский перепечатывать его не стал. Из всех подозрительных стихов по странной иронии судьбы только стихи «государственного преступника» А. Одоевского прошли через цензурный кордон[414].
То же, что было задержано, в совокупности своей должно было читаться как прямая декларация гражданственности в литературе — и она готовилась к печати уже после того, как была запрещена «Литературная газета» и произошел разговор Дельвига с Бенкендорфом.
Дельвиг не собирался, конечно, дразнить самодержавную власть. Но его личность и взгляды были сформированы не ею, а эпохой и обществом, которые во многом ей противостояли. И эти взгляды должны были на каждом шагу противоречить официальным требованиям.
Он совершенно искренно отвергал обвинения Бенкендорфа в злоумышлениях против правительства — но шеф жандармов не верил ему. И тот, и другой были по-своему правы.
Пушкин, Вяземский, Баратынский, Языков — прежнее «ядро» участников альманаха — предстало и в этой книжке «Цветов». Из старших поэтов — И. И. Козлов с «Песней Дездемоны» и Гнедич.
Выход «Илиады» и пушкинский отклик примирил Гнедича с дельвиговским кружком. Сомов в своем обзоре заявил еще раз печатно, что гнедичева «Илиада» была бесспорно «замечательнейшим поэтическим явлением сего полугодия», и необъятная разность существует между нею и всеми до сих пор бывшими переводами древней поэмы. Он вступил в полемику с Надеждиным, который в «Московском вестнике» противопоставлял перевод Гнедича новейшей романтической поэзии. Гнедич также поспешил ответить «Возражением»[415]. Он не собирался стать орудием сторонников Каченовского в борьбе против Пушкина.
Сомов вносил свою лепту в «борьбу за Гнедича» — и словно в завершение этой борьбы «Северные цветы» перепечатывают два старых послания — Плетнева к Гнедичу и ответное Гнедича к Плетневу. Последнее из них еще не появлялось в печати полностью: отрывок из него, как мы помним, был помещен Дельвигом в «Северных цветах на 1828 год». Теперь читателю предлагался весь поэтический диалог, из которого вырисовывалась фигура Гнедича как наставника литературной молодежи — поздний отзвук той репутации Гнедича, которую создала ему поэзия начала 1820-х годов.
С этими стихами в альманах как будто входило веяние еще не столь давнего прошлого. Прежние члены Общества любителей российской словесности собирались за одним столом.
Плетнев дал в альманах еще одно стихотворение: «Отрывок» («Покинув родину, страну суровых вьюг…»).
Федор Глинка прислал прозаическую аллегорию «Новая пробирная палатка» и семь стихотворений («Непонятная вещь», «Отрадное чувство», «Тоска о нем», «К синему небу», «Бедность и утешение», «Осень и сельское житье», «Приметы»).
Пять стихотворений, как мы уже говорили, принадлежало Василию Туманскому.
Давние знакомцы были рядом, на соседних страницах, под одним переплетом. Но как все изменилось в них и вокруг них!
Старшее поколение уходило с литературной сцены. «Илиада» была лебединой песнью Гнедича. Глинка достиг в «Карелии», кажется, своего предела. Мелкие его стихи уже более ничего не открывали: кимвалы 1820-х годов перестали греметь, страдание узника и поселенца уступило место усталой резиньяции. Плетнев уже почти не писал стихов.